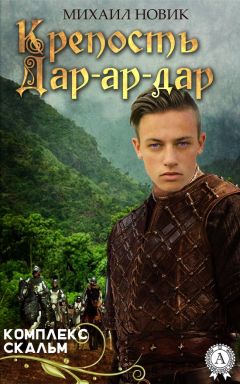Михаил Веллер - Мое дело
Польза на будущее от этого осталась крайне мелкая и чисто тактическая: приятно было сказать корректору, что сам когда-то работал корректором и хорошо его понимаешь. После этого легче уговорить корректора по-человечески снизойти к твоей нужде и слабости — и в исключение из правил оставить твое написание. В советские времена это было непросто!
…Я не уверен, что вам нужны подробности про столы, лампы, гранки, оттиски в одну, две и четыре краски, про капитанов в погонах первого ранга, которые потом иногда оказывались нюхавшими море только в отпуске в Сочи, и сплошной женский коллектив, немолодой и чужой, отдельный.
Но. Иногда эти карты вдруг давали тебе иллюзию отсутствия железного занавеса. Дальние моря, южные Океаны представлялись обычным делом. Как чужие миллионы бедному бухгалтеру при них.
Если бы я проработал там год — я стал бы писать биографии великих мореплавателей.
5.
Казанский собор — это песня!
Я прослужил в нем равно год. Со дня рождения-Ленина — 22 апреля — в аккурат до следующей годовщины вождя;
«Государственный музей истории религии и атеизма». Эти упоительные приключения веселого, духами молодого тела заслуживают отдельной повести. Я был мэнээсом, экскурсоводом, столяром, снабженцем и замом зама директора по хозчасти.
Религию изучали все больше евреи под управлением татарина и поляка. Это обеспечивало философскую разноплановость точек зрения на все.
И комсомолец я узнал, что Иисус Христос, скорее всего, надо полагать, существовал реально. А?! Услышать это — в советское время — от официальных советских ученых и частично коммунистов!.. Врожденный атеист просто начинал коснеть в сарказме, и скептицизме, относительно всех советских догм! Ибо массам, было предписано полагать религию опиумом для народа! Библию в руках не держали — но плевали в ее сторону! Попов полагали обманщиками или в лучшем случае отсталыми и заблудшими мракобесами! Забыли ренегаты?!
О-па! И я за умеренную плату купил там Библию из конфиската таможни! У кого в семьдесят четвертом году была Библия, голодранцы?
И я узнал, что человек был религиозен всегда — с самых ранних моментов, когда можно судить о его появлении! Еще у неандертальцев были религиозные верования и обряды! И религия, а стало быть вера, человеку вообще свойственна, по природе его, в мироположении вещей это. Официально так не писали, но знали и говорили меж собой как естественное.
Черт-те чем я пропитался в этом очаге религиоведения средь воинственно атеистической страны!
6.
«Скороход»
— Ты что, Михайло, — сказал друг. — Ты пишешь в общем чего хочешь, это автоматически печатается, приличным причем тиражом, а тебе за это еще платят деньги! На работу хоть к двенадцати, хоть вообще не приходи, если дома пишешь: только предупреди, да и все. Раз в неделю только к десяти, летучка в понедельник. Ну — ты же все равно писать хочешь?
Не то чтобы «и вот я стал многотирастом». Переложился еще одной работой — интересной и в тему.
Класс издания — «заводская газета» (полступенью выше многотиражной). Четыре полосы пять раз в неделю, тираж десять тысяч! Всесоюзное Обувное Объединение «Скороход» — двенадцать фабрик по всему Северо-Западу от Витебска и Невеля до Архангельска и Петрозаводска. «Скороходовский рабочий»!
Штат — четыре человека. Работало восемнадцать. «На подвеске» — числились затяжчиками 4-го разряда и прессовщиками 3-го, как и гласили записи в трудовых книжках; и дважды в месяц ходили в «свой» цех за назначенной зарплатой.
Все свои. Филфак ЛГУ. Средний возраст — двадцать шесть-семь. Сто сорок рублей. Чужие здесь не ходят. Песни трудовых подвигов. И на уголок за портвейном.
В первый день меня посадили на «подписи под клише». Тебе дают фотографию работницы. Фрома — фотошник Игорь Фромченко — сам накидал сокращений на обороте: «Иванова Мария Иван. 2ПП, закрой. 5 раз. 27 лет, бриг, КПСС, 140%». Посмотрев на эти значки, я пошел к редактрисе спросить, а где же информация о героине с фото, чтоб написать?
— Володя, — позвала она, — объясни человеку!
Хмуро-бородатый и весело-циничный двадцатитрехлетний ас Володя перевел с журналистского на русский эту скрижаль:
— Фабрика «Пролетарская Победа» № 2, закройный цех, закройщица пятого разряда, двадцать семь лет стажа в обувном, член партии, бригадир, план перевыполняет до ста сорока процентов. Ясно? На — пиши.
Я сел в машинописке, заправил бланк и стал тупо думать, что тут можно написать кроме того, что я уже услышал? Через час Володя сунул бороду в дверь, сел за соседнюю машинку и, глянув мельком на протертую моим взглядом фотографию, без паузы стал тюкать:
«Смотрите, девочки, смотрите. Учитесь! Бригадир Мария Ивановна рассказывает не слишком много, предпочитает показывать личным примером». И т.д.
— Ты что пишешь? — спросил я.
— Тебе помогаю, — ровно пояснил он.
Я открыл рот. С воздухом начали входить азы профессии. Словоблудие профессионала текло легко, как родниковая струя в ленинский чайник. Слова были совершенно необязательны и абсолютно неопровержимы. Они читались как нечто естественное, оставляя послевкусие рассказа о жизни как трудовой подвиг, со скромной интонацией.
— О господи, — сказал я. — Твою мать!
— Продолжай, — сказал он. — Научишься.
Я научился. Все учились! Но я через полгода стал чемпионом редакции в жанре «подпись под клише». По аналогичным значкам на обороте фото я на спор написал очерк на полосу. Условием было: не звонить в цех и не узнавать о героине больше ничего. Я писал о терпении, о наработанной точности глаза и твердости руки, об экономии кож и разных видах обуви, о цене трудового рубля и ранней дороге до проходной.
Видит Бог — мы были адские газетчики. Почти все были заголовщики и почти все были фельетонисты. Любой свободный писал любой материал. С точностью до единой строки! Заправляемые в пишущие машинки бланки были типографски размечены на 25 строк по 60 знаков. Коэффициенты не считали — приличествовало помнить наизусть.
Первую заметку о ветеране войны я писал два дня и был измучен двумя страницами, как тракторист пахотой. Писание — интимный творческий акт!!! Что значит — надо написать то-то и то-то?! А как? Где кайф, порыв, вдохновение, внутренний позыв? Сначала я мрачнел, потом потел, краснел, пыхтел, кряхтел, стонал и матерился. Непринужденный циничный гогот молодых коллег был мне поддержкой.
Из гуманизма меня посадили на культуру, и неделю я тачал и ваял шестистраничный мини-очерк о музее Приютино. Оценили. Хорошо. Здесь все работали хорошо.
Через месяц молодого-нового кинули на первую полосу, и патриотические лозунги с тех пор мгновенно ввергают меня в беспокойство и невроз. Писать этим нечеловеческим языком ох нелегко. Призывы и свершения, знаменуя и призывая, вдохновляя и преодолевая, достигнуть и свидетельствовать, следом за и на смену им. Проклиная эту чуму, мы лепили первую строго по очереди.