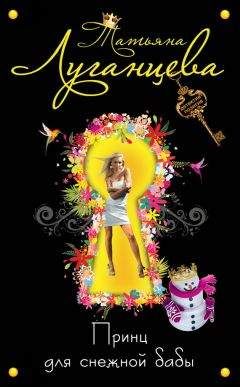Юрий Покальчук - И сейчас, и всегда
Отец Женевьевы, муж Мадлен, погиб в Испании еще в 1937 году. Мадлен давно состояла в коммунистической партии и входила в руководство местным движением Сопротивления. Через нее Антуан и получал задания для себя, Андрия и Пако.
Мадлен держала небольшую портняжную мастерскую, живя в соседнем с Антуаном доме. Это было удобное место для связи, оно не вызывало подозрения у оккупационных властей, даже если в доме Мадлен появлялись разные люди.
Сколько времени провели они в подвале, оборудованном под жилье, напряженно вслушиваясь в звуки радио, ловя каждую весточку о ходе событий на фронтах в Советском Союзе! Сколько горечи приносило им каждое известие о новом продвижении фашистских войск и каким счастьем было услышать, что фашисты остановлены на Волге...
Осенью сорок второго года они усилили диверсии на шахтах, взорвали подряд несколько поездов — вот где пригодились знания Андрия и его товарищей из мадридской диверсионной группы. И тогда немцы пошли на провокацию. Пассажирский поезд Париж — Марсель — помнишь, Андрий, свое путешествие в Испанию? — был взорван на пути между Турню и Маконом. Двести пятьдесят человеческих жертв. Много раненых. По всей стране расклеены приказы оккупационных властей: это дело рук бандитов, называющих себя движением Сопротивления, к сведению французских граждан! Каждый, кто сообщит властям о подозрительных действиях людей, в той или иной мере помогающих бандитам... Предлагалось солидное вознаграждение, звучали призывы помочь в налаживании мирной жизни во Франции.
Листовки Сопротивления, разоблачающие провокацию, немедленно появились во всех французских городах. Подпольная типография находилась в Лионе. Два молодых шахтера, совсем юноши, по восемнадцать лет каждому, везли следующую партию листовок в Сент-Этьенн, несколько десятков килограммов. На мосту над Роной поезд был остановлен, начался массовый обыск. Фашисты знали, что искать. Ребят схватили. И, хотя никто не мог доказать, что багаж с листовками принадлежал нм, обоих привезли в Сент-Этьенн и подвергли допросу с пристрастием. Пыточная находилась в нескольких комнатах вокзального помещения. Руководство Сопротивления знало, что ребят пытают, вымогая признание. В ту ночь никто не спал, было неизвестно, что дальше. Выдержат ли. Если нет, гестаповцы могут ухватиться за ниточку всего клубка, и он начнет распутываться. И, хотя оба схваченных знали совсем немного, фашисты искали хоть какие-нибудь следы, надо было с чего-то начать, показать населению — вот они, бандиты.
Через сутки вечером Антуан прибежал взволнованный, но радостный. Все в порядке. Их выпустили. Едва живые, замученные. У одного нет ногтей на руках, второй не может разогнуться. Но молчали. Если бы сказали хоть слово, им конец. А так вышвырнули на улицу. Поверили, что ничего не знают. Но теперь за ними будет слежка. Пора в горы.
— Давно пора! — Андрий вскочил с места. — Уже действует не один партизанский отряд. У нас много людей. Одних наших восемь — это же основа!
— Андре, ты же знаешь, что мы выполняем указания руководства. Ждем приказа. Пока что, говорят, мы нужны здесь. Вот поговори с Мадлен...
Мадлен — невысокая русоволосая женщина, кто бы сказал, что ей столько лет, если бы не видел рядом дочери, скорее, они казались сестрами. Глубокие умные глаза, на дне которых таилось и пережитое горе, и ежедневное страшное напряжение, и что-то очень женственное. Она была привлекательной женщиной, но все попытки мужчин выйти за рамки товарищеских отношений пресекались Мадлен без особых усилий. Достаточно было ее взгляда, звуков ее властного при всей мягкости интонаций голоса.
Они в который раз говорили об уходе в горы. Сейчас не время, Андре, вот и все. Мы в подполье, у нас есть партийная дисциплина. Ты, наверное, знаешь, что это такое...
И угасал Андриев запал, и все становилось на свои места.
— Конечно, ты права, Мадлен, у тебя, как всегда, есть резон.
— Андре, я ведь говорю с вами не от своего имени...
Как вы встретили Новый, 1943 год? Новыми листовками, двумя поездами, пущенными под откос, новым оружием, добытым у фашистов.
И новогодней вечеринкой в доме Антуана. За долгие годы это был едва ли не лучший твой новогодний праздник, Андрий. И Пако, и всех остальных.
Все началось именно тогда.
Пако шел девятнадцатый год, а Женевьеве семнадцатый.
Женевьева была совсем не похожа на мать. Светло-русые волосы, темные густые брови, горячие карие глаза. Это Пако сказал тогда — у нее какие-то горячие глаза, у этой Женевьевы, просто сжигают, когда смотрят...
Словом, пришла пора, чтобы и тебя сожгли чьи-нибудь глаза, брат мой, пришли твои годы, только в жестокое время. Сейчас не до этого. Уже скоро, фашистов бьют. Советская Армия теснит их. Мы должны приложить все усилия, чтобы помочь ей. Еще какой-нибудь год, а может, и меньше, и победа, а значит, мир, спокойная, нормальная жизнь...
— Скорее бы это время, — сказал Пако. — Нам пора в горы, надо действовать поактивнее.
Они говорили об этом не впервые. Только на этот раз недолго. Все разошлись, а они с Андрием спустились в свой подвал и долго молчали на этот раз. Каждый о своем. Не спалось. Андрий слышал — хорошо зная, что такое бессонные ночи, — что и Пако не спит, о чем-то думает, но не начинает разговора, ожидая, когда начнет он...
Следующий праздник пришел через месяц, когда по радио передали о полном поражении фашистских войск под Сталинградом. Теперь верилось, что победа близка, что Англия и США наконец откроют второй фронт в Европе и одним могучим наступлением с двух сторон фашисты будут сметены.
Андрий невольно залюбовался тогда парой — Женевьева и Пако. Совсем разные. Пако с его угольно-черной шевелюрой, резкий в движениях, остроумный и веселый. И Женевьева, грациозно отбрасывающая назад волосы, казалось, уже осознающая свою женскую привлекательность, все явственнее проступавшую сквозь угловатость подростка. Она внимательно слушала Пако, слегка щуря глаза под длинными пушистыми ресницами, те самые свои горячие глаза, и улыбалась, подхватывая на лету блюдечко, которое бурно жестикулировавший Пако сдвинул со стола, или растирая руку, которую он задел своим острым локтем, когда сорвался с места, чтобы пригласить ее на танец. Да, в женском обществе у Пако с грацией не очень, улыбался Андрий. Ну и красивый он у меня парень! Девчонка, кажется, влюбилась-таки.
Девчонка и впрямь влюбилась.
Андрий заметил это через несколько недель. Вдруг слишком подозрительным показалось ему частое желание Пако выйти из подвала. Парень находил сотни причин, чтобы выбраться на улицу, и всегда возвращался поздно, находя столько же причин для оправдания.
Андрий сначала не обращал внимания, потом стал сердиться, потом решил проверить, в чем же дело.
Из подвала Антуана было два выхода. Один прямо в комнату, где спал Антуан, с дверцей, которая открывалась под его кроватью; и другой, сделанный недавно, он вел во двор, на небольшой огород, в садик, граничащий с таким же садиком-огородом, принадлежавшим Мадлен.
Пако сказал, что выйдет в садик покурить и подышать свежим воздухом, чтобы не мешать его писаниям. Андрий как раз сел за свою тетрадь, куда в эти длинные, ничем не заполненные дни снова начал записывать стихи. В них заглядывал только Пако, да и то изредка. Этой весной Андрием овладело беспокойство. Жизнь в подвале стала его угнетать, ему не хватало активности, действий. Отдых поневоле возвращал воспоминания, будил горькие мысли, застарелую боль.
Пако покрутился немного, подошел к нему, заглянул в тетрадь, сказал: прости, но это хорошо, то, что ты пишешь, ты еще будешь писателем, вот увидишь, переведешь мне потом, ладно?
Ладно, сказал Андрий, вспомнив, что Пако говорил ему уже не раз так заинтересованно о его стихах, когда выходил куда-то, но ни разу не вспомнил о них после возвращения. Иногда они разговаривали в садике с Антуаном, иногда втроем, вместе с Женевьевой. Андрию это нравилось. Нельзя, чтобы парень сидел вот так взаперти, без общения с ровесниками.
Но сейчас, когда Пако исчез, Андрий переждал с полчаса, что-то не давало ему покоя; немного поколебавшись, он тихонько вышел из подвала и, стараясь не шуметь, двинулся в глубину сада.
Он едва не наткнулся на них и отшатнулся, неизвестно чего пугаясь больше; того ли, что они его заметят, или того, что самому пришлось увидеть, или биения собственного сердца, застучавшего вдруг так громко, что, казалось, его услышат и они.
Пако и Женевьева стояли под густой вишней, которая росла как раз на границе двух садов. Ярко светила полная луна, и хотя те двое стояли под деревом, их было хорошо видно, виден был профиль Пако, его руки с длинными тонкими пальцами, ласкавшие ее волосы с какой-то неловкой и трепетной нежностью.
Андрий стоял, не в силах пошевелиться, не в силах оторваться от этого зрелища, ощущая одновременно и стыд, и что-то похожее на обиду, ведь от него все скрывали. Вот почему Пако теперь так спокоен в подвале, вот почему он так долго спит утром и просыпается с глазами, обращенными в себя. Вот почему тревожно Андрию нынешней весной — что-то уходит от него вместе со зрелостью Пако, с его временем, которое для Андрия уже давно миновало и никогда не возвратится.