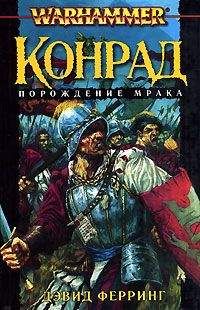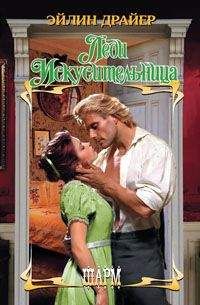Гарри Гордон - Обратная перспектива
Карл трезвел и думал с досадой о своей бесполезности в любой жизненной ситуации.
Берёзка выдержала, «Шишарик» с рыком, как раненый, отжался передними колесами и ринулся на подлесок, круша направо и налево…
4
Мартовским утром Колька проснулся с обидой. Она стояла в горле, как бывало в детстве, и нельзя было проглотить её, не заплакав.
Он вынес из горницы дорожную сумку, побросал туда попавшиеся на глаза Лидины вещи и тронул женщину за плечо.
— Вставай, Лида, одевайся.
— С ума сошёл? — недовольно сморщилась Лида. — Сейчас, наверное, часов восемь.
— Вставай, — повторил Колька тихо и грозно.
Лида села и попыталась посмотреть насмешливо. Колька отвернулся.
— Куда ты меня ведёшь, Николай, — спрашивала она на льдистой дороге, запыхавшись, стараясь не отставать. — Убивать? Так зачем далеко ходить…
Колька молча шёл впереди с сумкой на плече.
— Да погоди ты, — тревожно просила Лида. — Дай хоть перекурить.
Через час они были на шоссе. Редкие машины медленно и тупо проезжали мимо. Наконец, остановился почтовый микроавтобус.
— Лида, — грустно сказал Колька, — вот деньги. Не пропей только в Кимрах, садись в электричку. Поезжай, упади своему менту в ножки. Полгода прошло, а ты не беременная. Авось простит. А вместе — мы пропадём. Сначала коровки, потом ты, потом я.
Не дожидаясь ответа, Колька повернулся и побрёл по льдистой дороге.
Глава одиннадцатая
1
В телевизоре по всем каналам гуляла широкая масленица. Карла знобило, ломило в суставах, кружилась голова, — то ли грипп начинается, то ли просто простуда. Да и пора — зима кончается.
Прежде, в трудные рабочие годы, он радовался такому состоянию, возможности отдохнуть, отлежаться, не мучаясь при этом совестью. А сейчас — валяйся себе, сколько хочешь, совесть не причём, но всё равно, по старой памяти, состояние это было приятно.
Карл смотрел в телевизор и радовался сквозь досаду: во время всенародных праздников — всё равно каких, масленица ли, или восьмое марта — Москва становится провинцией: манерная фифа надевает ширпотреб и оказывается румяной бабой, простодушной и слегка глуповатой.
Слишком яркий свет стоял в окне. Карл задвинул занавеси и залез под тяжёлое одеяло.
В прихожей затопали, и в комнату ввалились один за другим — такие узнаваемые, как будто виделись вчера — поэты, не дожившие до прозы. Они смеялись и первым делом просили у Карла прощения. Ну да, Прощёное Воскресение…
— Простите и вы меня.
— Бог простит, — ответили они с улыбкой.
«Да это скорбный сход, — вспомнил Карл знаменитое стихотворение Чухонцева. — Но почему-то не так страшно. Совсем не страшно».
Гости, каждый, ставили на стол портвейн — столько портвейна сразу Карл не видел никогда.
— А пойдёмте в кухню, — предложил он. — Там теснее.
Расселись, как когда-то: кто на стульях, кто на табуретках, а кто и на перевёрнутой кастрюле.
«Какие худенькие, — подумал Карл, — ещё и место осталось…»
Они внезапно, хором, замолчали, в молчании этом слышалось многоголосие. Молчал и Карл — что он мог сказать…
Первым заговорил Александр Тихомиров, он был в этой компании старшим по возрасту смерти — погиб ещё в восемьдесят первом году.
— Наливай, — сказал Тихомиров. Все заслушались бульканьем портвейна, мечтательно смотрели в потолок. Выпив, не чокаясь, со свиданьицем, гости загалдели разом. Алла Евтихиевна, надломившаяся душой в тяжёлые девяностые, ставшая тогда чуть ли не уличной коммунисткой, ехидно допрашивала:
— Ну что, Карлик, хорошо ли тебе в новом государстве?
Карлу невыносимы были политические споры, потому что он был оптимистом. Он вздохнул:
— Хорошо, Аллочка. Государство не при чём. Его нельзя судить человеческими мерками. Нет для него ни морали, ни чести, ни совести…
Алла Евтихиевна просияла некрасивым очаровательным личиком:
— Ты, Карлуша, по крайней мере, всё такой же.
Алла Евтихиевна не могла себе позволить даже минутной бездарности. Давление её таланта было настолько высоким, что прорывало время от времени культурную броню то стихотворением, то безбашенной влюблённостью, то блистательным скандалом.
— Аллочка, может, почитаешь, — предложил Тихомиров.
— Нет, давайте подождём немного. Слуцкий обещал придти.
— Я и Чичибабина приглашал, — сказал Слава Макаров, — но тот отказался: незнаком, говорит, да и не тусовщик.
Макаров, несмотря на небольшой рост, сутулился, как высокий. У него было, как часто бывает у горбунов, лицо полководца. Но другие заботы и забавы прельщали его: он вертел словами, как вертели на пальце ключи от «Жигулей» счастливые их обладатели.
— Мы выпьем, — сказала Алла Евтихиевна, — а ты, Карлик, не пей. У тебя температура.
— О темпора, о дура! — сказал Макаров.
— Как наши? — спросил Тихомиров. — Как Алёша Королёв?
— Болеет. Но, по слухам, опять стихи пишет.
— Бухает?
— А как же!
Зазвонил телефон.
— Снимите, кто-нибудь, трубку, — попросил Карл, сидящий далеко, у двери.
— Ты уж сам дотянись как-нибудь.
Карл дотянулся.
— Алё, алё, — заведомо недовольным голосом сказал Королёв. — Ну, и что у тебя?
— У меня… — Карл замялся, прикрыл трубку ладонью. — Это Алёша. Вы долго пробудете? Он успеет приехать?
— Нет, нет, — замотала головой Алла Евтихиевна. — Мы к нему сами придём. Отдельно.
— Алло! — откликнулся Карл. — У меня тут… температура.
— Понятно. Я вот чего звоню. Мне тут предложили авторский вечер. На конец марта. А я не могу: в больницу ложусь. Ты бы не согласился?
— Опять… Запасной игрок.
— Нет, что ты. Я когда тебя предложил, они обрадовались. Я даже заревновал. Да ты их прекрасно знаешь. Подружки твои, музей Маяковского.
— Отчего тогда сразу не позвали?
Алёша хмыкнул:
— Сам виноват. Недозвон. Ну ладно, выздоравливай. Не пей вина, Гертруда. А в музей всё-таки позвони.
Оживился Юрочка Виноградов: кто, как не он, будучи сотрудником музея, придумал и воплотил эти вечера поэзии.
— Как сейчас, — спросил Юрочка. — Ходят?
— Ходят, Юрочка, но всё больше барды и эти, как их… маньеристы.
— Это я их привёл, — гордо сказал Виноградов.
— Сань, — позвал Тихомирова Ян Гольцман. — Петь будем? Если будем, связки надо смочить. Наливай, Юрочка.
Ян Яныч стихи читал охотно и степенно, но целью и содержанием кухонных сборищ он считал пение. Пел он медленно, воздев глаза горе, гораздо медленнее, чем можно было представить, но не сердился, когда все подряд выпадали из его темпа — допевал один. Песен знал множество — от уличного романса пятидесятых годов, до народных — олонецких, волжских, поморских. Пел и украинские песни, только слова перевирал…
— Сперва почитаем, — решил Тихомиров. — А придёт Слуцкий — начнём сначала. Нам ведь не трудно.
Улыбчивый Саня внешне был похож на Блока, а внутренне был светел и раним.
— С тебя, Саня, и начнём, — сказал Ян Гольцман, самый старший по возрасту жизни.
Тихомиров улыбнулся:
Гостиница
Провинция, ночь… и бездомный
Фонарь светит криво, как блин,
На тусклые серые волны
Морозцем прихваченных глин.
Глядит городок незнакомо,
Верёвкой стучит о карниз…
У чёрного этого дома
Вся площадь вдруг съехала вниз.
Где ветер с реки оловянный,
Где звёздам дышать не дают —
Казённый, печной, деревянный,
Дверной и оконный приют.
Из сахара сложена печка,
И возится бабка с углём —
Её золотое сердечко
Сражается с красным огнём…
Проснулся я в праздник метели —
Взрывается снег у окна;
И, лёжа на белой постели,
Я вкусного выпил вина.
И спал ещё долго и сладко,
И снилось — поёт соловей.
И скачет вчерашняя бабка
На свадьбе у внучки своей.
— Саня, — попросил Карл, — а прочти про деву… Что-то про капрон.
— А, — сказал Тихомиров. — Про капрон, так про капрон… — И весело поглядел на Карла.
Был я юный, был я праздный,
Был снежок арбатский — грязный.
Был чудесный магазин
«Антикварные изделья»,
Что для светлого безделья
В дни трудов — незаменим:
Были рваные галоши,
Непонятные весной…
И нескладная, как лошадь,
Дева юная со мной.
То ль её тиранил отчим,
То ли пьяница-отец.
Или мачеха… А впрочем,
Так ли важно, наконец?
Ах, скамейка в парке. — Трон
Долгой юношеской муки…
Дева стиснула капрон,
Но мои мятежны руки!
Полуночные лобзанья
До вульгарного грубы…
Дома брань за опозданье,
Опухание губы.
И, хотя мы не любили,
Счастье было без прикрас.
Просто мы безгрешны были,
И любовь любила нас.
— Макаров! — вызвал Ян Яныч.