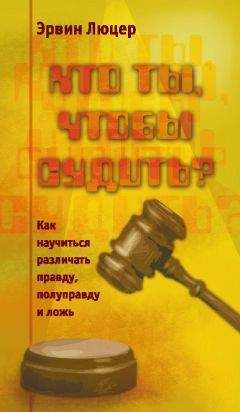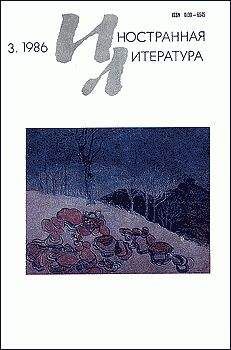Педро Сарралуки - Для любовников и воров
– Я не знала, что нужно терпеть такие неудобства, чтобы быть эпикурейцем, – сказала она, глядя на туман, который не могло рассеять солнце, скрытое за быстро сменявшими друг друга тучами. Повернувшись к Долорес, она добавила: – Сегодня ты великолепно выглядишь.
– Не беспокойся за меня, – сказала та, вынимая сигарету изо рта. – Если мы долго здесь пробудем, я останусь замороженной до тех пор, пока не откроют способ меня вылечить.
Пако вернулся вовремя, чтобы развеять меланхолическое настроение больной. Он предложил выпить за благополучие. Потом он с поразительной жадностью принялся уплетать устрицы. Время от времени Пако останавливался, чтобы понюхать свои пальцы с выражением неописуемого удовольствия. Съев по меньшей мере две дюжины, он икнул и посмотрел на нас с удивлением, как будто только что перенесенный сюда машиной времени. Несколько хищно улыбнувшись, он залпом выпил содержимое своего бокала. Только после этого ему удалось частично вернуть своему облику сдержанность, необходимую истинному отшельнику. Увидев, что мы смотрим на него в растерянности, Пако встал, чтобы снова наполнить бокалы, и поднял свой.
– Сегодня мой день рождения, – сказал он, как бы извиняясь. И, подумав немного, добавил: – Я делаю что хочу, так же как и всегда. Кто мне может это запретить?
Несмотря на это агрессивное и одновременно меланхолическое провозглашение свободы, с этого момента Пако брал каждую устрицу с таким видом, как будто это был простительный каприз – возможно, последний, который он собирался себе позволить. Хотя обе женщины ели очень умеренно, натиск издателя истощил приготовленные мной запасы. За несколько минут с первой коробкой было покончено, и мне пришлось идти за второй. Когда я вернулся, Долорес что-то говорила тем циничным тоном, каким обычно рассказывала о своих бывших любовниках. Она уже не была слишком бледна и даже позволила, чтобы одно из ее колен высунулось из-под распахнувшегося пальто. Как всегда, Долорес держала у рта сигарету и улыбалась, глядя поочередно то на Исабель, то на Пако.
– …не знаю, сколько месяцев я ее уже не видела, может быть, целый год. Она сильно постарела и вся сморщилась. На ней была надета нелепая лиловая шляпа. Она остановилась передо мной на тротуаре и сказала: «Как же ты похудела! Просто тростинка!» Я ответила ей: «Это потому, что у меня рак». И тогда она, немного скосив глаза, посмотрела на меня в ужасе и ляпнула: «Но тебе это очень идет!»
Все рассмеялись. Долорес тоже искренне хохотала, откинув голову назад. У Пако смех перешел в приступ кашля. С налитым кровью лицом он оперся ладонями о стол и наклонил голову вниз. Я остановился и посмотрел на небо. Тучи раскрывались, как огромный и тонкий занавес.
Вскоре появился Умберто Арденио Росалес. Его сонные глазки казались двумя угольками под распухшими веками, выглядевшими в тот день еще более толстыми, обвисшими и фиолетовыми, чем обычно. Умберто не принял душ и даже не переоделся. Он распространял вокруг себя несвежий запах, смешанный с сильным ароматом лосьона для бритья. Его редкие волосы были всклокочены, будто все еще наэлектризованные вчерашней грозой. В своей руке с заплывшими жиром пальцами он держал дорожную сумку.
После завтрака Исабель и Долорес ушли каждая в свою комнату, чтобы привести себя в порядок и собраться. В гостиной остался только Пако, разжигавший камин. Увидев Умберто, он пошел ему навстречу. Мне показалось, что издатель собирается его обнять, но то ли я ошибся, то ли у Пако просто не хватило смелости сделать это. Он остановился перед Умберто, глядя на него с таким выражением, как будто они давно не виделись. Тот опустил глаза и слегка покашлял. Я испугался, что Пако еще раз захочет продемонстрировать свой оптимизм и объявит Умберто, менее всего способному оценить его яростное сопротивление тоске, что «сегодня великолепный день». Но Пако не мог скрывать от этого измученного человека, что он поддерживал его тридцать лет: он был не в состоянии обманывать этого жалкого неудачника, связывавшего его с реальностью. Он не мог и не хотел делать этого.
– Дело – дрянь, Умберто. Мы с тобой прогорели. Нужно что-то делать, чтобы встать на ноги.
Умберто посмотрел на издателя в нерешительности, приоткрыл было рот, но не смог произнести ни слова. Своими воспаленными глазами он видел издателя неясно, словно сквозь пелену – как призрак, который можно изгнать с помощью заклятия. Пако много раз твердил мне о могуществе слов, и я хорошо это усвоил. Он знал, что Умберто хочет избавиться от него раз и навсегда. Я уверен, что если бы у Пако была возможность, он бы помешал этому, но было уже слишком поздно. Он мог только ждать, чтобы Умберто собрался со своими мыслями – всегда такими грубыми и скупыми.
– Я не могу уже упасть ниже, – немного запинаясь, сказал наконец Умберто. – Теперь настал твой черед. Твое издательство уже тебе не принадлежит, а входит в группу. Там все переделают – настолько, что через несколько месяцев ты не узнаешь каталог. С тобой перестанут считаться. Но это даже лучше – чтобы тебя совсем не видели. Ты будешь жалок: в твои-то годы – такое унижение! Вот так. А я уезжаю, пока не поднялись другие. Я не могу находиться в их обществе ни секунды больше.
Стоя один на кухне, я отложил работу, чтобы рассмотреть их. Невидимость, к которой стремился пес издателя и которая доставляла мне столько удовольствия, могла превращаться в муку, накатываясь в самый неподходящий момент. Умберто направился к двери, спотыкаясь о свою сумку, как будто он не мог избежать того, чтобы не создавать себе самому препятствий. Пако шел следом за ним. Он хотел было взять его за руку, но остановился.
– Отдохни, – говорил издатель, стараясь чтобы его голос звучал убедительно. Он натужно хрипел, изо всех сил пытаясь хоть немного смягчить свой повелительный голос. – Возьми несколько дней отпуска и расслабься. Я приеду проведать тебя в конце следующей недели. Посмотрим, что можно еще сделать.
Прежде чем они вышли в сад, мне удалось услышать ответ Умберто.
– Ничего, Пакито. Ничего уже нельзя сделать. А тебе лучше оставаться здесь. Найди себе какую-нибудь компанию. Полин бы подошла, но она слишком молода, да еще вдобавок спуталась с этим придурком. Поищи кого-нибудь еще. Не думаю, что когда-нибудь повторятся такие выходные. Те, кто приехал к тебе на этот раз, больше не появятся в твоем доме…
Я вышел в сад и видел, как они спускаются по склону по направлению к калитке. Мне вспомнилось письмо тридцатилетней давности, прочитанное мной прошлой ночью. Так же как шелковый халат, висевший за дверью ванной, как старая фотография моего отца рядом с его новым «гордини», как все увядающее и теряющее смысл, это письмо яркими вспышками нарисовало образы людей, шедших уверенным и небрежным шагом к своей гибели, к краху, неминуемо ожидающему каждого из нас. Я помнил это письмо почти наизусть, но его последние строки превратились для меня в зловещее предупреждение живущим: «…С нетерпением, волнением и надеждой жду Вашего ответа. Всегда к Вашим услугам, Умберто Арденио Росалес».
* * *Выходные подходили к концу. Я подал обычный завтрак – с кофе и свежими газетами – гостям, не участвовавшим в раннем застолье с Пако. Фабио и Полин вышли вместе из ее комнаты, решившись наконец встретиться лицом к лицу с Умберто. Однако его уже не было – он вовремя уехал, чтобы избежать этой встречи. Вместо Умберто они застали Антона Аррьягу за его утренним возлиянием. Увидев, что его обнаружили, Антон залпом выпил содержимое стакана и похлопал себя по груди, как будто это была микстура от кашля. Он даже попытался изобразить на своем лице отвращение, как будто ему пришлась не по вкусу эта отвратительная, но, вне всякого сомнения, полезная жидкость.
– Мне нужно разогреться, – сказал он. – Меня всю ночь колотил озноб.
Тогда как Антону был необходимо утреннее виски, его жена, позавтракав лишь шампанским с устрицами, вероятно, жаждала выпить чашку хорошего кофе. Я поставил кофейник на поднос, чтобы в последний раз отнести ей. Проходя по саду, я поднял лицо вверх, чтобы ощутить слабое солнечное тепло. Тучи окончательно рассеялись, открыв дорогу холодному и прозрачному, как хрусталь, дню. Я вошел, не постучавшись.
Долорес Мальном собирала чемодан, который я столько раз носил под дождем в день их приезда. Мне казалось, что это было давным-давно: будто мое появление со свечами в особняке, буря, заставшая меня в дороге, первый ужин пореем и омлетом с укропом принадлежали к другому периоду моей жизни – периоду, когда мне нравилось скрываться и наблюдать за жизнью других, когда я был лишь сообщником своего отражения в зеркале.
Я поставил поднос на письменный стол. Долорес с улыбкой смотрела на меня, положив руки на бедра. Я с трудом выдержал ее взгляд, но не отвел своих глаз. Долорес была великолепна со своим жемчужным колье – для нее мир был грандиозным нескончаемым балом. Я тут же готов был построить для нее небоскреб, огромное мраморное здание, с ярким светом внутри, длинными диванами, миллионами подушек и единственным зеркалом – моим внимательным и преданным взглядом. По-видимому, Долорес почувствовала, что в моем воображении проносятся какие-то безумные идеи, потому что она подошла, не прекращая доброжелательно, но испытующе смотреть на меня. Когда она оказалась рядом, я с изумлением заметил, что не ощущаю страха. Я дрожал, как в лихорадке, но чувствовал себя удивительно свободным перед этой женщиной, стоявшей так близко, что наше дыхание смешивалось. Долорес очень нежно посмотрела на меня, как будто боясь напугать. Потом она бросила взгляд на поднос, оставленный мной на столе, и произнесла слова, которые я запомнил на всю жизнь и всегда старался быть их достойным: