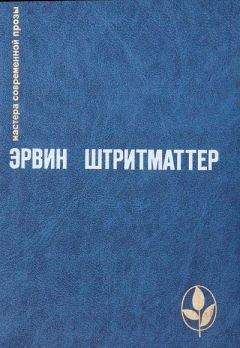Константин Кропоткин - Призвание: маленькое приключение Майки
— А что с ним теперь будет?
— Он нашел свое место, и набирает силу с каждым днем… Он сможет сыграть нового Гамлета, потрясти воображение своим Чудовищем. А роль горбуна Квазимодо написана будто специально для него…
— Горбун? Вы хотите, чтоб над Сонькой смеялись?
— Иногда можно и посмеяться, — признал Никифор. — Например, хорошую комедию невозможно смотреть без смеха. Но пойми, зрители смеются не над актерами, а вместе с ними. Ведь это игра — добрая, поучительная игра. Если ты играешь в разбойницу против казаков, то тебя никто не собирается сажать в настоящую тюрьму, правда?
— Правда.
— А другая правда в том, что время пришло! — произнес Никифор, очутившись возле большой двустворчатой двери. — Ты позавтракала?
— Ага, еще как. Чаю попила. С плюшками. В первый раз все сама.
— Значит, бурчать не будешь.
— Чему бурчать? — едва не обиделась Майка. Неужели Никифор думает, что она правил поведения не знает?
— Животом бурчать. От голода. Ведь здесь, — он склонился над Майкой и понизил голос. — Здесь потчуют другой пищей!
— Какой?
— Духовной! — объявил Никифор. Он распахнул дверь. — Театр!
«Нет уж, лучше плюшки сонькиного папы», — с испугом подумала Майка, следуя за Никифором. Организм ученицы четвертого класса иногда странно усваивал духовную пищу.
Не очень давно театр у Майки закончился настоящей вешалкой.
«Вешалка»
Майка знала: с театром шутки плохи. Можно так вляпаться — и смех, и слезы. А точнее, слезы сквозь смех, потому что нельзя показывать виду, что тебе обидно, иначе совсем засмеют.
В самом начале учебного года они всем классом пошли в театр.
Начиналось все хорошо. Трамвай гремел, скрежетал и повизгивал. Было весело и страшно, потому что на прежнем месте жительства трамваев Майка не видала.
— Вы любите театр? — спросил ее Беренбойм.
Он впервые обратился к Майке и говорил ей «вы». От радости девочка сама едва не завизжала, как трамвай.
— Я еще не знаю, — ответила она. — У нас в Тальцах театра не было. А здесь мы только в цирк сходить успели.
Красивый темноволосый мальчик отступил. Глядеть, как из-под трамвая выбегают рельсы, Майке сделалось неинтересно. Но это было только начало.
Сам театр выглядел замечательно. Лина-Ванна сказала, что это «храм». Слово было торжественное, и Майка мигом с ним согласилась. У храма был большой вислый лоб, на котором каменные фигуры разыгрывали разные сцены. Чтобы до него добраться, надо было подняться по лестницам мимо фонтанов со скамейками, пересечь площадь, выложенную фигурной плиткой, преодолеть еще несколько ступенек, полукругом тянувшихся возле парадного входа.
Храм. Иначе и не скажешь.
В лобастом храме показывали спектакль «Золотой ключик». По сцене ходила женщина в полосатых штанах и с носом. Она изображала Буратино, который ищет себе приключения и все время их находит. Ее отговаривала женщина с синими волосами. Мужчина в белом халате читал носатой женщине стихи. А другой, с лохматыми тряпками на ушах, лаял. Конечно, были и прочие сказочные герои, которые тоже ходили среди фанерных домов и картин природы. Потом женщина с носом отыскала ключик, похожий на кочергу, и отомкнула ей кукольный театр: все попрыгали, музыка позвучала, а Майка так не поняла, любит ли она театр.
Ей было только жаль, что самая смешная сказочная героиня появилась всего один раз. В самом начале представления Буратино ругался с крысой Шушарой. Ах, какая она была смешная! Пищала, вертелась, верещала! Она крутила носиком, дергала острыми ушками и виляла длинным голым хвостом. Настоящая крыска! Она так задорно себя вела, что девочке хотелось тоже подскочить к ней и вместе запрыгать-запищать. Но потом Шушару наказали низачто, и она уже больше не появлялась. Очень жаль.
На следующий день на уроке Лина-Ванна стала спрашивать, кем бы кто хотел стать в этой сказке. Добрая Варька сразу взяла себе невыигрышную черепаху Тортиллу. Коновалов с Силиверстовым чуть не подрались из-за Буратино. Кропоткин захотел быть Карабасом. Иманжигеева согласилась на Лису-Алису. Великанова сказала, что будет Мальвиной. Верка тоже хотела быть Мальвиной, но Великановой уступила. Она сказала, что будет вдумчивым зрителем, и Лина-Ванна ей разрешила. Беренбойм сказал, что согласился бы читать стихи о богатом внутреннем мире, как Пьеро. И поглядел на Великанову.
Майка тут же решила выучить самое красивое стихотворение, какое ей только попадется, выйти к доске и прочесть его так, чтобы всем стало ясно, что у нее тоже есть богатый внутренний мир, а не только мышиные косички и маленький рост.
— Кем же хочет быть Яшина? — спросила Лина-Ванна в самый разгар ее раздумий.
— Крысой Шушарой, — девочка ляпнула первое, что пришло ей в голову.
Смеялись все: и Великанова, и Беренбойм, и Коновалов с Силиверстовым. Лина-Ванна и та проявила непедагогичность. Рассмеялась и Майка, потому что в коллективе иначе нельзя.
— Вешалка, да и только, — сказал папа, жалея дочку, вечером того же дня.
Он тоже смеялся, но по-другому. С ним Майке не было стыдно.
«Яйцо любви»
Теперь Майка словно раздвоилась.
Тело ее скромно сидело в тени фикусовой пальмы в «Актовом зале» на втором этаже «Детского мира»: рот ее был заперт на замок, а руки прилежно сложены на коленях… Но душой Майка витала неизвестно где.
Она смотрела в другой конец комнаты, где было устроено небольшое возвышение с ситцевыми шторками по бокам.
На маленькой сцене, на кривоногом старинном стульчике с круглой спинкой, сидела девица Арманьяк. Ряженая в старинное пышное платье с тонкой талией, Гаргамелла держала в руках гитару с бантом. Голубые волосы ее были распушены по плечам, за спиной куколки цвели рисованные сады, а в ногах лежали пяльцы с мужским портретом, завершенным едва ли наполовину.
Перебирая гитарные струны, она пела:
— Вышиваю
Нерасчетливо, без тщеты.
Добываю
Губ изгиб, четкость черт.
Вызываю
Жизни жизнь, розу роз.
Проступает
Лика блик. В тело шелк
Превращаю…
Песня кончилась, а мысль о ней — так казалось Майке — осталась.
Она тревожила.
— Хочу искать! — вдруг вскричала крошка и бросила гитару.
— Дзынь, — жалобно ответил инструмент, грохнувшись на пол.
— Хрю-хрю, — подтянул кто-то третий.
Майка пригляделась. Этот звук произвел белый треугольник, топорщившийся на стволе нарисованной вишни. Поначалу Майка приняла его за древесный гриб — он был белый, немного вислый, с маслянистым блеском. Но, поглядев повнимательней, девочка поняла, что задник украшен самым настоящим человеческим носом.
— Хрю-хрю, — сочувствовал тот страдающей куколке.
— …Я хочу, чтобы было ожидание, — произнесла Гаргамелла далее, прижимая к груди свои крохотные ладошки и выразительно хлопая разноцветными глазами. — Я хочу, чтобы были пустые страхи, чтобы волнения расцветали на моих щеках розанами…
— Хрю-хрю, — выражал участие нос.
— …Я хочу бороться, искать, найти и не сдаваться, а в итоге обрести счастье с музыкой и танцами…
Муки ее были так неподдельны, что сострадающий носогриб взял и провалился — в стволе нарисованного дерева образовалось дупло. Задник слегка пошевелился, и из-за занавески появился Никифор.
Его костюм был торжественно застегнут на все пуговки, натертая лысина вспыхивала огоньками, а за спиной торчало ружье.
Одежда директора Пана была прежней, но, тем не менее, он выглядел достойным самых художественных чувств. Теперь Никифор выглядел солидным, как антикварный шкаф.
— Ах! — счастливо выдохнула Гаргамелла, увидев Никифора.
— Все сгинет, дорогая, это сезонное, — ласково произнес Никифор, нежно касаясь ее плеча. — Маета пройдет. Соберут баклажаны, в кадушках посолят капусту и твоим терзаниям наступит конец. Ты заживешь лучше прежнего.
Никифор утешал Гаргамеллу. Ружье сочувственно скребло прикладом по полу.
Сомнений быть не могло. Они разыгрывали любовь.
— Хрю-хрю, — это захлюпала носом Майка.
Как и многие девочки, она ужасно любила истории про чувства, хоть и немного стеснялась: в наше трудное время всем, даже маленьким детям надо уметь держать удар, а лить слезы разрешается так редко, что, кажется, лучше уж и не тратить времени даром…
Но любовь, запылавшая на маленькой сцене, между ситцевыми занавесками, была чудесней иностранного сериала «Рабыня Изаура», который девочка впитала вместе с молоком матери. Как тут не прослезиться? Как?
— Я не могу ждать! — воскликнула Гаргамелла, тараща на Никифора свои необыкновенные глаза. Ее голос звенел и серебрился. — Я не умею ждать! Когда ждешь, надо чем-то заниматься, а у меня от ожидания возникает скука. Я лежу, словно сонная выдра, и ничего уж не хочу… — она отвернулась от Никифора, задев подолом платья гитарные струны.