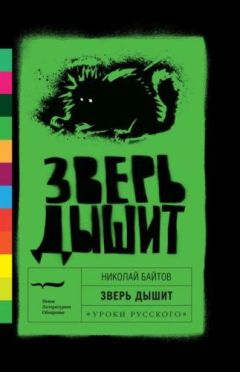Дидье Ковелер - Явление
Я отвожу взгляд. Зачем я так поступила? Чтобы еще один голос раздался из лагеря картезианцев, опровергая чудо от имени объективного доказательства? Создать фальшивое вещественное доказательство в интересах науки? Обманным путем предоставить лишний аргумент противникам иллюзий? Ввести в заблуждение рационалиста ради победы разума? Воспользоваться атеистом, как это сделали со мной, но для подкрепления его теории, притом что сама я уже не уверена ни в чем? Единственный найденный мной способ не оторваться от реальности?
– Маленький подарок в обмен, – хитро улыбается Гвидо Понсо, указывая на сотовый телефон, который только что достал из кармана.
Он включает его, жмет на кнопки, подносит к уху, одобрительно кивает, протягивает мне. Раздается сигнал автоответчика, затем я слышу отрывисто и неразборчиво говорящий что-то по-испански хриплый женский голос. Я возвращаю ему телефон, напоминая, что не понимаю этого языка. Он снова прокручивает сообщение и, заткнув правое ухо рукой, а сотовый приложив к левому, дословно переводит мне его содержание.
– «Без него нет для меня рая. Помоги ему, Натали, ты, к которой он прислушивается. Скажи ему, что Мария-Лучия рядом с ним с самой его смерти. Пока он будет уверен, что мы разлучены, он будет одинок».
Тонко улыбаясь, Гвидо Понсо выключает телефон.
– Вы знаете, кем была Мария-Лучия, доктор?
– Его женой.
– Правильно. Это называют паранормальным голосом; на моем автоответчике в Неаполе таких сотни. Как видите, и даже здесь, на этом взятом напрокат сотовом, чей номер никому не известен.
Меня ошеломляет его спокойствие. Его задорность, обреченность, привычность. Я как можно безучастнее спрашиваю, не доводилось ли ему получать послания из потустороннего мира по Интернету.
– Нет, что вы, компьютер им неудобен. Изъясняться бинарным языком… Зачем усложнять себе смерть? Если бы я был духом, я бы тоже использовал телефон. Ведь создавать звуки им гораздо быстрее, да и правдоподобнее, чем вторгаться в системную программу. Разве нет?
Я внимательно рассматриваю его, пытаясь определить, не тронулся ли он, как и я. Затем тихо спрашиваю:
– Им?
– Священникам, тайным агентам Ватикана, спекулянтам потусторонними явлениями, всем тем, кто сговорился против меня, чтобы пошатнуть мой разум. Они ни на секунду не оставляют меня в покое: паранормальные голоса, хлопающие двери, передвигающиеся сами собой вещи, моя машина, глохнущая без видимых причин, а затем самостоятельно заводящаяся… Чего они только не испробовали на мне. Как видно, на вас тоже. Мне знакома эта привычка съеживаться, сжимая кулаки. Крепитесь, Натали. Всему есть объяснение, всему, слышите? Я с вами. И мы не одиноки. Тысячи людей по всему земному шару борются вместе с нами против сил тьмы и сверхъестественного закулисья… Для секретных служб Ватикана ставка в этой игре неописуемо высока. Они полагают, что для католической Церкви это единственный способ выживания в условиях грядущего мирового господства ислама. Пренебрегая учением Христа и верой людей! Им нужна армия фанатиков, чей разум затуманен чудесами, призраками, НЛО и ясновидящими! Они дошли до того, что как-то раз чуть было не застрелили своего Папу тринадцатого мая для исполнения третьей тайны Фатимы и ее последующего предания гласности: «Епископ в белых одеждах падает, словно замертво, под пулями огнестрельного оружия». Об этом якобы возвестила Пресвятая Дева юным пастухам из забытой Богом деревушки, которая как бы случайно носит имя любимой дочери пророка Мухаммеда. Долго еще они будут держать нас за дураков! Они хотят, чтобы всей нашей верой стала доверчивость! А я отказываюсь! Я лишь потому и объявил войну Церкви, что верю в человека!
Он прерывается, подозрительно смотрит на туристов, которые разглядывают его, жуя со смущенным видом. Допивает свой наперсток, морщится, поднимается из-за стола, благодарит меня за содействие и за кофе, обещает очень скоро дать о себе знать.
Я провожаю его взглядом с таким ощущением, будто частичка меня навсегда ушла вместе с ним, терзаемая между отвращением к самой себе, стыдом и солидарностью с ведущим этот справедливый бой с пустотой человеком. Хотя, может быть, смысл жизни и заключен в борьбе – что против заблуждений других, что за отстаивание своих. Я уже и не знаю. Я ничего не хочу знать. У меня не осталось сил даже для сомнений.
«El Nuevo Mundo» закрыт. Стараясь не наступать на спальные мешки, приютившие вчерашних манифестантов, я пересекаю площадь и вхожу в облюбованный толпами туристов кафедральный собор. Гирлянды плакатов на сводах на шести языках призывают соблюдать осторожность и слагают с себя всякую ответственность. Сетка, натянутая в десяти метрах от пола, защищает христиан от обвала камней и штукатурки. Что мне еще остается, кроме как, превозмогая себя, молиться за то, чтобы Хуан Диего наконец услышал голос своей жены и оставил меня в покое? Сегодня он опять преследовал меня во сне, в перерывах между приступами бессонницы. Всякий раз, как только мне удавалось заснуть, он представал передо мной стоящим на том же месте, в глазу, то в своем остроконечном колпаке, то без; он приглашал меня последовать за ним, и я переступала через веки, раздвигая ресницы. Наталита, Наталицин… Остерегайся, милая сестричка… Все те же слова и та же предупредительная улыбка. Но остерегаться чего? Мысль о существовании потустороннего мира, это жалкое утешение, придающее сил стольким верующим, отбивает лично у меня всякое желание жить. Во всяком случае, так, как прежде. Начать все заново, да, но для кого и где? Я никогда не думала о себе. И я утратила вкус к преданности. Человеком, которого любила, я пожертвовала ради того, чтобы он раскрылся, реализовался, а он и ныне там, скованный принципами, в которых удерживает меня. Если у нас с Франком и есть будущее, есть настоящее, то только вдалеке, вдалеке от нашего окружения, нашего самоотречения, нашей рутины. Когда я мысленно возвращаюсь в свою страну, то ощущаю себя такой же чужой, как и здесь, такой же неуместной. Сколько еще времени я смогу отвергать общепринятые законы, пример других, почести, которым все завидуют, обязанности, которых страшусь? И для чего вообще продолжать жить? Кто там нуждается во мне? Кто нуждается в том, чем я стала, в ценностях, в которые верила, в разочарованиях, которыми нагружена, в химерах, за которыми уже и не гонюсь? Вчерашнее откровение перед глазами Девы ничего не изменило во мне. Все те мысли, что посетили меня сегодня утром, уже давно были в глубинах моего сознания; это бездействие помогло им всплыть на поверхность, не осмысление ошибок или подсказка небес: то самое бездействие, от которого я всегда пыталась оградить себя, потому что, стоит мне только остановиться, я падаю. С той только разницей, что на этот раз у меня уже нет желания подниматься.
Каким бы стало мое возвращение? Я позвонила бы Франку, рассказала ему о пережитом, как делятся дурным сном, а потом жизнь вернулась бы в привычную колею: мои пациенты, мой дом, его любовницы. С единственными возможными в том, что касается меня, вариантами: переехать, купить новую собаку, обзавестись мужчиной. Согласиться возглавить клинику, нисколько не заботясь о том, как это скажется на Франке, выдерживать противостояние с администраторами и кредиторами в попытке навязать им свои взгляды, чередовать дипломатические ходы, открытые столкновения, уступки… У меня больше нет ни соблазна сказать «да», ни смелости сказать «нет». Я чувствую себя все более одержимой Хуаном Диего, в полном соответствии с тем, что читала о нем, что мне о нем рассказывали и каким сделал его мой сон… Я сейчас испытываю то же самое, что и он, когда стоял перед Девой четыре века назад. Поначалу не верится, потом выбираешь свой лагерь, а под конец находишь это чем-то само собой разумеющимся. Познание сверхъестественного не привносит ничего нового в человеческую природу, оно выявляет уже существующие черты характера: у одних развивает излишнее самомнение, у других воспламеняет сердца, кого-то погружает в бездействие. Бедный индеец семнадцать лет провел в окружении богомольцев и идолопоклонников, став узником рассказа о единственном знаменательном событии своей жизни. Разве мог он мечтать о чем-то большем, ожидать чего-то лучшего на этой земле после потери своей жены? Он жил прошлым, как и я до сегодняшнего дня, а время неумолимо шло вперед, и вот теперь я сажусь на лавку собора и жду.
Что же так тяготит меня, отчего так сводит живот, что заставляет бесцельно сидеть с подкатывающими к горлу рыданиями и щемящим сердцем? Такое сходство, такая общность взглядов? Но мой внутренний голос молчит, так же как это бывало и в маминой синагоге, и в церквях, где позднее я пыталась найти оправдание поступкам отца. Я выхожу той же, что и входила.
На расколотой прерванными ремонтными работами паперти в инвалидном кресле просит милостыню старик без ног и рук, с табличкой «gracias»[23] на шее. Прохожие, словно в расщелину ствола, опускают монетки в карман его рубашки, избегая встречаться с ним взглядом, крестятся и продолжают свой путь. Некоторое время я стою, прислонившись к забору, завороженная этой сценой, выглядящей все более неправдоподобной по мере того, как по прошествии первого шока к ней привыкаешь. Как он добрался сюда, как передвигает свое кресло, как вынимает свои гроши из кармана или хотя бы следит, чтобы их не стащили? Его лицо выражает лишь мимолетную сосредоточенность, вежливое равнодушие банковского сотрудника у своего окошка.