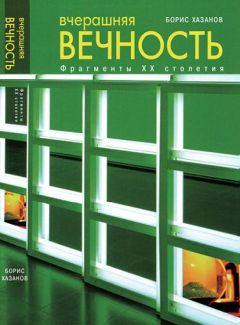Борис Хазанов - Вчерашняя вечность. Фрагменты XX столетия
Он хватается за вставочку, школьное перо: быть может, эти заметки «по поводу» столкнут с места его работу. Нужно отдать себе внятный отчёт, в чём состоит задание. Написать о том, что роман не даётся? Не означает ли это, что в дальней перспективе времени, в пропасти зеркал твои персонажи всё-таки живы и машут руками — то ли прощаются, то ли зовут к себе?
Вот почему, между прочим, — «фрагменты». Потому что эта эпоха похожа на отбивную — кусок мяса, по которому так долго колотили молотком, что он превратился в дырявый лоскут. И роман о ней может быть только обрывками. Связное повествование — это, господа, былая роскошь, достоянье других времён, когда герой романа был субъектом истории. Сейчас он только объект.
О чём и «повествует».
Но тут опять. Едва лишь нам удалось нанизать бусы, как нитка выскальзывает из пальцев, жемчужные шарики рассыпаются. Кому это — нам? Кто говорит? Стать рассказчиком или остаться безличной точкой зрения, ничьим взглядом? Revenons au commencement.[36]
Где-то в Старой Москве обитает старая дама из «бывших». На дворе тридцатые годы, глухое безмузыкальное время. Нужно, чтобы оно зазвучало; так перекладывают на музыку скучный, бездарный текст. Так расчёрчивают нотный стан, но где же мелодия? Нужна тема. Что-то должно происходить. Старухе необходим собеседник, лучше всего ребёнок, он-то и представляет собой, в первом приближении, повествующую инстанцию. Мы пришли к необходимости персонального рассказчика. Двигаться дальше по проторённому пути, превратить повествователя в персонаж? Твоё «я» существует в двух лицах. Ты говоришь с самим собой, но это значит, что ты преобразуешь себя в Другого. Марсель — это Другой, не Пруст. Роман растёт и мужает в воспоминаниях, воспоминание же оказывается, как в ловушке, внутри чего-то большего — внутри романа. Это роман распоряжается и тобой, и твоим двойником. Роман — это и есть то, что некогда называлось сверх-Я. Роман — всесильный наркотик, «бан», чудодей.
Важно не то, что он способен удвоить существование, открыть для тебя твоё другое Я, о коем доселе ты не подозревал, — важно, что он убеждает тебя в том, что Другой существует на самом деле. Считается, что триггер отпирает запертые камеры сознания. Открывает ли он новые пласты действительности?
Слоистость твоего «я» есть не что иное, как слоистость действительности.
Ночь на 22 февраля
Здесь, как и всюду, проставлена дата. Заметьте, однако, что вмешательство хронологии насилует подлинную жизнь. Коварство так называемого исторического мышления, силки, которые расставляет нам линейная повествовательность. Было то-то, потом случилось то-то, и получилось то-то. И выходит какое-то подобие осмысленности. На самом деле мы не живём в хронологически упорядоченном времени, хоть и стыдимся в этом признаться. Долой хронологию!
Прошлое — как повороты детского калейдоскопа; вопрос в том, кто перебрасывает эти цветные стёклышки, из которых при каждом повороте складывается новый узор, кто же это великое и безрассудное Дитя, которое крутит трубку калейдоскопа.
Но не значит ли это (спросил он себя), что мы тянемся к литературе как области, где прошлое не противостоит настоящему, где время воспоминаний неприметно переходит в сновидческое время, le temps onirique, столь же легитимное, как и всякое другое, и в котором, как матрёшка в матрёшке, в свою очередь содержалось другое сновидение; и не в этом ли преодолении линейного времени новое и высшее оправдание литературы? Задав себе этот головоломный вопрос, сложив руки на столе, сочинитель опустил на них тяжёлую голову.
Он спал несколько минут.
Сон, нечто всплывшее из колышущейся бездонной массы бессловесного, промытое в чистых струях сознания, чтобы превратиться в послание, в притчу, — сон застал его не на соломенном ложе, но где-то на дальней линии метрополитена, был поздний час, поезд всё ещё стоял на станции, ты вошёл в пустой освещённый вагон. Тотчас в твоём мозгу ожило другое видение: ты брёл вдоль отсыревших стен туннеля, цеплялся за кабельную проводку, ты был там, среди врагов, и вместе с ними спасал свою шкуру, тускло поблескивали рельсы, что-то выступило из мрака, лобовое стекло, мертвые чаши фар. Машинист спал перед пультом управления, уронив голову, это был поезд мертвецов. А снаружи грохотала артиллерия, рушились остатки погибающего города.
Но вот прозвучал голос, предупреждавший об отправлении, в эту минуту на перрон вбежал запоздалый пассажир, бросился к вагону, двери захлопнулись. Пассажир дёргал за ручку застрявшего портфеля, делал отчаянные знаки, видимо, просил тебя помочь раздвинуть двери, наконец, они разошлись, снова сомкнулись, и перрон вместе с пассажиром поехал назад.
Ты сидел у окна, поглядывал на своё тёмное отражение в стекле, перечёркнутое несущимися огнями, и думал о том, что сны дешифруются не наяву, а в романе, что вопрос о том, какое время реальней, онирическое или реальное, отнюдь не решён и что следовало бы сдать портфель в бюро находок. Но поезд летел не останавливаясь, это была дальняя линия с большими расстояниями между станциями. Пока, наконец, не дошло до сознания, что станция была конечной, а куда едем дальше, неизвестно. Тем лучше: будет время познакомиться с содержимым портфеля. Отщёлкнув замок, ты нашёл там толстую рукопись, принялся за чтение, а поезд по-прежнему шёл, не замедляя хода, и вагон раскачивался и громыхал на стыках.
Писатель почувствовал себя плагиатором. Он лежал на тюфяке и должен был признать, что не только присвоил чей-то труд, но присвоил чужую судьбу. Чужой образ, безымянная тень сидит за столом и глядит на него тёмными глазницами, глядит с укоризной. И, уже просыпаясь, с необычайной ясностью он постиг, что тот, опоздавший, так и не успевший вскочить в вагон, был он, а в вагоне сидел другой, тот, кто собирался сдать портфель в бюро находок, но передумал, — да и поезд больше не останавливался.
Но и это был сон: и комната, и тюфяк, на котором он уснул не раздеваясь и увидел себя подбежавшим к последнему поезду; очнувшись, он вспомнил, что война всё ещё не кончилась, сообразил, что он заблудился в горящем Берлине, подобно тому как заблудился в своём романе, и странствует в лабиринте подземных путей, и заглядывает в стёкла вагонов застрявшего поезда. О, это было вечное повторение, борозда в мозгу, по которой проносилось его воображение. Он стряхнул с себя этот морок. Стало ясно, что вся его жизнь на воле была долгим и (как это бывает, когда спят тревожно) абсурдно-логичным сном, правильным, но основанным на ложных посылках, наподобие бреда у некоторых душевнобольных. Ложной посылкой было освобождение. Он лежал, но не в хижине Швабры Анисимовны или как там звали полусумасшедшую хозяйку, а на нижних нарах, что было большим преимуществом, так как то и дело, едва успев вернуться, приходилось опять бежать в сортир. Там он сидел, уцепившись за что-то, на корточках на дощатом помосте с круглыми дырами, тужился, стараясь выдавить из себя весь свой кишечник, но выходил лишь плевок кровавой слизи, и так продолжалось день и ночь, двое или трое суток, он потерял счёт дням, не мог идти пешком с партией больных, его везли на подводе, это был долгий марш ходячих и лежачих от зоны до станции, в темноте влачился следом за ними усталый конвой, тебя втащили в вагон, где за решёткой тамбура сидели у железной печки два других конвоира, везли свой народ по лагерной ветке до станции с древним раскольничьим именем Колевец, на больничку. Там он и умер от токсической дизентерии и был свезён на поля захоронения, и некий голос шепнул ему: сучий потрох, ты и на том свете будешь жить в лагере. А в барачной секции, в тумбочке между нарами осталась лежать его толстая рукопись, неужто мы успели написать её ещё там? Задача, следовательно, состоит в том, чтобы вынести её как-нибудь за зону, а там и на волю.
Кого-то надо просить. Тут он спохватился, что всё ещё едет. Пустой вагон гремит на стыках, огни туннеля несутся за тёмным стёклом, где смутно маячит его отражение, два солдата в зелёных бушлатах, в шапках поддельного меха со звёздочкой качаются в тамбуре перед погасшей печкой. Да, сказал он себе, хронология в самом деле есть мнимость.
XXXVII Всё, что не разрешено, — запрещено
22 февраля 1957
Кто-то дёргал за ручку. Это не могли быть они. Скорее какой-нибудь сосед... подосланный стукач. Кто-то пытался к нему проникнуть.
Хрустнула ржавыми суставами дверь. Явился некто. Она стоит на пороге. Оба уставились друг на друга. Наконец, она спросила: «Ты кто?»
Что он мог ответить?
«Я здесь живу».
«Что ты тут делаешь?»
Писатель скосил глаза на бумаги, на книжку, пожал плечами. Она приблизилась.
«Что ты читаешь?»
«Книгу, — сказал он. — Вот. Ты ведь умеешь читать?»