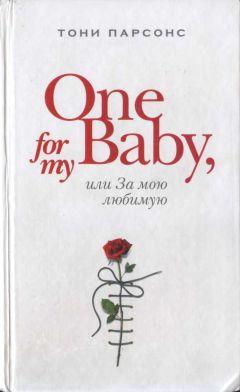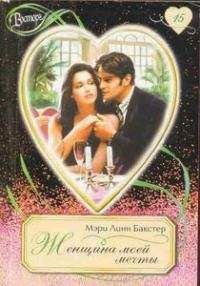Дитмар Дат - Погода массового поражения
следующий стук вырывает меня из потока, течения, и когда я кричу «черт подери, что там еще?», поскольку ожидаю ту же выходку, что и недавно, который час, собственно говоря? — смотрю на часы: прошло три часа, — Константин покашливает: «клавдия? что случилось, ты?..»
«нет, погоди, хорошо, стой, я тебе, ээм, открою!» спотыкаюсь и чуть рожей в дверь не влетаю, он озабоченно смотрит на меня, когда я рывком затаскиваю его в комнату — мило, надо воздействовать на него как пре вне не
но дело не во мне, он озабочен из-за чего-то другого: «не ловит сигнал, он… он должен работать, мы обо всем четко… а теперь, видишь, он сдох: слева нет этих палочек, одна… проклятье», он протягивает мне его, будто я могу что-то сделать.
«а та эскимоска? она придет, только если ты позвонишь, да?»
он не видит меня и не слышит, я думаю о дурацком шлеме в чемодане, о приспособлениях, отдающих дешевой киношной фантастикой с я не знаю, почему меня это так сильно будоражит, но я не даю ему времени впасть из озабоченности в причитания: «хватит, пошли, выйдем, поездим вокруг, снаружи уж точно, явно поймаем, нет, никакого кофе, потом попьешь, пошли, к тачке», с меня хватит, он должен прекратить, всю это клоунаду, немедленно, и я беру, толкая Константина к машине, дела в свои руки, он думает, у меня хорошая мысль: объездить местность, пока его аппарат не поймает сигнал, но мне не этого надо, я хочу одним махом разрушить всю эту ахинею, остановить выворот мозгов набекрень, я в нем больше не участвую, я раскрою ему глаза: «осторожно, бога ради…»
да, он бы у меня руль отнял, видя гигантский след, оставленный шинами, потому что я так необдуманно и рьяно трогаюсь, плевать, вперед.
«может, вон там, где…», но я игнорирую его предложение остановиться на гаконаджанкшн и использовать площадь по левую руку, где стоит будка с эспрессо и большой барак с лежащим у дверей ковром из опилок, для воскрешения его сотового — что это вообще за так называемая деревня, четыре дома, двадцать человек, с забегаловкой за рекой и избушками вокруг, вместе с гостиницей, может быть, и все тридцать, смешно же, кто станет
«куда ты едешь? Клавдия, ответь, я тебя спрашиваю, что ты делаешь? что это значит?» мы на токкатофф, пока он еще не начал протестовать; я злобно молчу: нет, дорогой, привидениям конец, я тебе докажу, ничего там нет, можно ехать домой и возвращать мою жизнь в прежнюю колею, это ты обязан сделать, старикан, обязан, мне.
«Клавдия, мы уже почти…»
седьмая миля на указателе, да, я знаю: «именно этого я и хочу, мы едем туда, к главному входу».
«клавдия, опомнись, пожалуйста…»
эта плаксивость, этого у него в принципе не бывает, а если вдруг и случится, то мне на это плевать орать, как сейчас.
«я опомнилась, я в такой твердой памяти, в какой тебе бы надо быть как старшему и, черт его знает, мудрому, а ты втягиваешь меня в эту… это же все чепуха, Константин, не веришь же ты в это серьезно, управление погодой, контроль мыслей, камеры, русский дятел…» «русс… клавдия, что ты…»
видимо, он не предполагал, что я это запомню, что я пойду по следу его шушуканий в анкориджском «старбаксе» и выясню, что за
мы на месте.
это должен быть он, слева, этот неприметный въезд, и все же я немного удивлена, что, в отличие от фотографий, видно только деревья и эту пандусообразную дорожку из гравия, никаких антенн, ничего из того, что
крутой разворот, вопреки уже не бабскому, но пылко-гневно-сердито-отверженному протесту Константина: «ты еще давай посигналь для полного счастья, в голове не укладывается, о чем ты только думаешь! труд десятков людей, многолетний…»
«ах дудки», я больше не играю, я выхожу, и если у него еще осталась искорка благоразумия, он, если ареста и града пуль не будет, сам сразу
он ничего не может поделать, только смотрит: женщина за рулем, и я слышу, чувствую, как его это раздражает, пугает и обижает, но я делаю это, я приостанавливаю машину, кручу руль, потом даю газ, машина трогается так, словно пинка получила, нас откидывает назад, и потом я подаю вправо, пляска, тряска, остановка, всё позади, мы стоим на въезде.
ни души.
я отстегиваюсь, открываю дверь, выхожу и смутно осознаю, будто неоконченную мысль, краем глаза, что он делает то же. здесь нет ничего, или всё: щебень и гравий, серая земля, легкий туман, мрачно и мглисто, решетка с предупреждениями: не двигать ворота, не трогать, можно пораниться, даже умереть, и никому нельзя входить на территорию, только с разрешения коменданта. кого задержат на территории, гласит другая надпись, могут обыскать, досмотру подвергнут все, что он/она имеет при себе.
два мертвых громкоговорителя на грязных столбах, два цветочных корыта, в которых щебень, землезаменитель и убогая трава борются с холодом, деревья из темноты, заледенелая дорожка как корка на крае пиццы, вдали, на вооруженной земле, думает думу большой генераторный отсек цвета яичного ликера, и жужжит, и гудит.
«это», говорю я, и не знаю, что это.
Константин стоит белее мела на полпути между мной и машиной, я хочу пойти к воротам и не хочу, я могла бы кричать, могла бы махать руками.
«что с тобой? клавдия?» теперь ему страшно и он не скрывает этого.
я не знаю, о чем он, но это место, ясное дело, не обещает ничего хорошего.
все, что я читала, было совсем другим: параноидальным, но и спекулятивным, техническим, холодным, однако здесь, на месте, все отнюдь не техническое, а заколдованное, это гигантское гудение: «это… зло», говорю я, потому что нужное слово наконец-то приходит мне в голову.
он улыбается будто извиняясь: «ну да, это… это я тебе и так говорил, верно?»
путешествие, чувствуем мы оба, окончилось, план сорвался, стал неосуществимым из-за меня, мы стоим перед крепостью, которая нас игнорирует, я глупо прикидываю, стоит ли мне закурить, машине тоже страшно, она прикидывается, что спит, я передергиваю плечами: «м-да. да. вот. прости, я… ты был прав, здесь живет сам дьявол», когда я подхожу, он заключает меня в объятья, мы стоим, обнявшись, перед штукой, которую мы хотели разоблачить, с трудом отрываемся друг от друга.
в машину.
прочь отсюда.
X
так радостно и грустно от вчерашних разговоров, долгого и короткого, что мне еще остается делать, кроме как благодарить Вас за то, что в Вашем ужасном тайминге, посреди темноты, есть хотя бы эта возможность, этот последний
если там наверху есть камеры — а я больше не сомневаюсь в том, что они есть, — то нас сфотографировали и засняли, как мы пытались удержать друг друга, в этих толстенных одеждах, может, у них даже есть чуткие микрофоны, которые могли услышать, как он сказал: «я всегда хотел защитить тебя, от… не знаю, от всего».
мы, словно парочка, вернулись к машине под руку и молча поехали к реке, остановились у домика и долго сидели в машине, спешить уже было некуда.
«от чего?»
так он начался, этот важнейший разговор.
«что от чего?»
«от чего ты хотел меня защитить?» он улыбнулся и посмотрел на меня, сначала ничего не говоря, потом, спокойно, будто уже поставил на этом крест: «ты же не коммунистка и ею уже не станешь, наверно».
я надула щеки, комизма ради: «пффф, ну слава богу, хоть это ясно».
он посмотрел из окна на серого пса, который ошивался перед байкер-баром, между мотоциклами в густом снегопаде, пригнувшись к холодной земле, потому что там еще сохранялось тепло, у мощных моторов, «но одно у нас с тобой… общее, в кпг я тогда очень рано…»
«идеалист».
«может быть, но благодаря этому я… я очень быстро вырос».
«вырос, как это?»
«повзрослел, слишком быстро, и при ужасных обстоятельствах. вот, видишь, с тобой произошло то же самое, и все еще происходит, но я хотел… от всего этого тебя… ты знаешь, что это я убедил твоих родителей подыгрывать в этой… истории, с томасом? эта навязчивая идея, эта гнилая маленькая сказка, которую ты с таким успехом… что мы должны принять в этом участие, это я предложил, когда ты вернулась из клиники, я не видел в этом ничего особо дурного, только безобидное как будто».
я слишком от всего устала, слишком была благодарна за его открытость, чтобы, как обычно в таком деле, отреагировать нагло или агрессивно или, м-да, бешено, как тогда на психиатров, после того как
«мне казалось… я сказал твоему отцу, этому… эстету, что он должен смотреть на все поэтически, как на великое перевоплощение, говорить, что он уехал в берлин, вместо того, что случилось на самом деле, — и разве не должна она казаться гуманной… красивой идеей, эта ложь? в берлин, вместо: умер, молодая девушка, почти ребенок, теряет ближайшего родственника…»
я смотрела из окна на собаку и молча плакала, не вполне в себе, и как обычно себя не жалея, но когда он это сказал, я обернулась, посмотрела на него, чтобы он видел, как я люблю его, и сказала: «но ведь это ты. ближайший родственник».