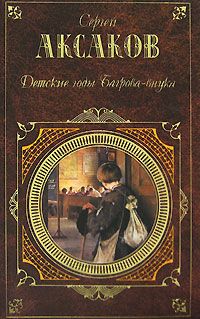Майкл Чабон - Тайны Питтсбурга
— Смазка! — объявил он, и я засмеялся. Мой смех был похож на разноцветные пузыри, поднимающиеся из глубин расплавленного дегтя.
— Давай!
— Расслабься! Дай мне перевести дыхание! Поцелуй меня, — попросил он.
Было очень больно. Масло оказалось холодным и странным, но когда он сказал, что кончил, я не захотел, чтобы он останавливался. Я попросил его об этом, и он старался изо всех сил, но я заплакал. Он обнял меня, я успокоился, и мы стали снова смеяться над звуком, который, по его словам, я издал. Наши лица были близко друг к другу, но он вдруг резко сел и придвинулся еще ближе, чтобы лучше меня рассмотреть.
— У тебя идет кровь из носа, — сказал он.
Он встал, подошел к широким высоченным окнам спальни, раздвинул шторы и открыл ставни. В комнату ворвался ветер и вечерний свет, сочившийся сквозь кованую железную решетку. На пол упали тонкие прямые тени. На моей подушке были следы крови. Я встал, чтобы взять салфетку, Артур же снял наволочку и направился с ней к окну. Когда я вернулся, он стоял возле подоконника и улыбался новости, которую только что выставил на обозрение всего района.
18. Проницательность
«Каждая женщина в душе полицейский». Потом, гораздо позже, долгое время спустя после того, как то лето взорвалось и осело на землю пеплом и обрывками пестрой бумаги, я сидел в кафе в тихом курортном бретонском городке и разговаривал с парнем из Парижа, подарившим мне этот афоризм. Он пил перно, сладкое и мутноватое, горькое и умиротворяющее, и в подтверждение своей максимы поведал мне историю о детективных талантах своей бывшей невесты. Все время их помолвки он жил на третьем этаже старинного здания в Пятом округе, а на шестом этаже обреталась молодая женщина, которая все время его искушала. Она встречала его возле дверей в полупрозрачном одеянии, когда он вечером возвращался домой с работы, оставляла цветы и разноцветные ленты в его почтовом ящике, звонила по ночам и молчала в трубку. Эта особа была бедна и слегка не в себе, рассказывал он, а у него к тому времени уже имелась невеста, великолепная девушка из хорошей еврейской семьи, принадлежавшей к элите социалистов, и дело шло к свадьбе.
Он уверял, что, хотя соседка была хороша собой, целый год ему удавалось избегать ее объятий, и, разумеется, он никогда не говорил о ней своей богатой невесте. Но однажды, воскресным днем, безо всякой особенной причины он все-таки поддался. Когда все свершилось, соседка поднялась с его постели, надела платье и сандалии и побежала в соседний магазин за бутылкой вина. На лестнице она столкнулась с его невестой, которая приехала, чтобы сделать сюрприз жениху — преподнести ему дорогой подарок. Женщины обменялись короткими взглядами. Богатая невеста поднялась наверх, постучала в дверь, а когда жених открыл, влепила ему пощечину. Она запустила подарком, золоченым туалетным набором, в телевизор и ушла. Больше он никогда ее не видел.
Может быть, его мысль и не верна (хотя звучит неплохо, а это главное для афоризма), но я не успел пробыть и сорока пяти секунд в квартире Флокс, как она обнаружила что-то уличающее в моем лице, голосе, ласках — даже запахе — и обвинила в том, что я вновь проделал в два ночи. Артур потом уснул, а я, мучаясь бессонницей, пересек пустынную Пятую авеню и отправился домой по улицам, свободным от машин.
— Кто это был? — спросила она, оттолкнув меня и схватившись за спинку стула.
— Ты ее не знаешь. — У меня не было сил лгать достаточно убедительно. Она застала меня врасплох. Я мог лишь поглубже вжаться в ее старый диванчик и со страхом ждать, что она скажет дальше.
В то утро она разбудила меня телефонным звонком, и ее голос и это требование немедленно явиться к ней, после трех часов сна и чашки кофе, сказали мне: она все знает. Она стояла посреди своей незатейливой гостиной в драной серой трикотажной рубашке и шортах, сердито скрестив руки на груди, и молчала. Потом начала плакать.
— Прости меня, — пробормотал я, понурясь, в рубашку. — Это ничего не значит. Это ошибка. Мне было так плохо и одиноко, а потом я случайно встретил… девушку, с которой был знаком раньше.
— Клер? — всхлипнула Флокс.
Я посмотрел на нее. Это предположение вызвало у меня невольную улыбку или намек на нее.
— Нет, боже упаси! Глупость какая. Послушай, Флокс!
Она подошла ко мне. Я усадил ее к себе на колени и прижался щекой к драному, неровному, мягкому трикотажу. Утешения надо искать у рубашечной ткани.
— Пожалуйста, Флокс, ты должна простить меня. Ты должна. Я не испытываю никаких чувств к той женщине. Совершенно.
Она резко повернулась ко мне, озлобленная и снедаемая любопытством. У нее были красные глаза.
— Как она выглядит?
— Блондинка. Светловолосая и холодная.
— Такая же светловолосая и холодная, как Артур?
— Что ты хочешь этим сказать?
Она обхватила мою шею руками и сказала, что сама не знает. Она говорила, что я могу все ей рассказать, что она поверит каждому моему слову. Она то плакала, то затихала, и так весь день. Это было сложное, неторопливое и очень нежное воскресенье. Наши чувства, слова и поступки были очень тактичны и теплы. После обеда пошел дождь. Мы, полуодетые, забрались на крышу и стояли в лужах босиком. Нашим ногам было тепло на битуме даже под холодной водой. По всему району разносился клекот и дребезжание водосточных труб, и мы слышали, как расплескиваются полотнища воды, взметнувшиеся из-под колес автомобилей. Я курил под дождем, и это были самые вкусные сигареты в моей жизни. Я смотрел на грустное круглое лицо Флокс и ее мокрые ресницы. Вернувшись в дом, мы высушили друг другу волосы и стали есть пластиковыми вилками из пластиковых пищевых контейнеров. За день до этого Флокс купила бутылочку жидкого мыла и соломинку, и мы наполнили воздух ее спальни мыльными пузырями и тихими влажными звуками, с которыми лопается радужная пленка. В тот вечер я ее и сфотографировал. Еще я решил, что не буду встречаться с Артуром целую неделю.
Когда следующим утром я пришел на работу, Эд Лавелла пробивал чек на пятьдесят семь долларов за огромную стопку книг и журналов, а мой отец протягивал ему стодолларовую купюру. Отец был в строгом голубом костюме и приглушенных тонов галстуке. Лицо его носило то замкнутое, непроницаемое выражение, которое оно всегда принимало в десять часов утра, если отцу предстоял долгий рабочий день. Я знал, что он презирает «Бордуок» и пришел сюда поговорить со мной. Однако, едва взглянув друг на друга, мы поняли, что время для этого выбрано неподходящее. Отца ждала работа, и ему не хотелось, чтобы дикие сыновние речи весь день звенели в ушах. А я был бы подавлен необходимостью вымаливать прощение или внимание у него, такого холодного и сдержанного, у всех на виду. Вот мы и стояли у отдела бестселлеров, неспособные говорить. От него пахло лосьоном после бритья. В конце концов он пригласил меня на обед и в кино в среду вечером, сунул мне двадцать долларов и ушел. И только в обед я заметил, что все еще держу в руке свернутые трубочкой деньги. Я заказал у флориста букет из дюжины роз и отправил его Флокс в библиотеку. Выходя от флориста, я столкнулся с Артуром. Он только что подстригся, очень коротко, лишь один старомодно длинный локон падал ему на лоб и закрывал левую бровь. Он выглядел эксцентрично, по-мальчишечьи и весело.
— Ты жив, — сказал он.
Мимо нас прошли женщины, неся в руках сэндвичи и мороженое в рожках, переговариваясь с полными ртами. После вчерашнего дождя установилась сухая приятная погода, и на сияющую Форбс-авеню высыпали медсестры и секретарши, наконец обретшие свободу от кондиционеров и ламп дневного света. Я рассмеялся оттого, что воздух, казалось, был полон их голосами.
— Ты обедал? — спросил он. — Пойдем сядем возле юридического факультета.
Да, я помнил о своем решении. До последнего.
— Конечно, — согласился я и дунул ему в лицо. Локон приподнялся и на мгновение открыл такую знакомую желтую дугу его брови.
В тот день я позвонил Флокс на работу и солгал. Сказал ей, что собираюсь пообедать с отцом и сегодняшний вечер будет отдан священным сыновним обязанностям. Разумеется, я ни словом не обмолвился о последней встрече с отцом. Придумав эту ложь, я понял, что завтра она потянет за собой новую ложь. И что в среду, когда отец выскажет, что думает о Флокс на самом деле, — а он это непременно сделает, если я решусь встретиться с ним, — мне придется выкручиваться снова. Однако первая ложь, с которой все начинается, всегда дается тяжелее всего, с душевным трепетом и тяжелым сердцем. Ее голос не выражал ни разочарования, ни ревности.
— Только что принесли цветы, — сказала она. — Ты просто чудо.
После работы мы отправились к лестнице за Музеем изобразительных искусств, на которой обедали почти два месяца назад. Мы хотели прогуляться, но еще не решили, где и как проведем остаток вечера. Я предложил отправиться в Потерянный Район. Мы облокотились на поручни и стали смотреть вниз. Внешне Артур выглядел спокойным, но я заметил, что от него исходит волна нервозности или возбуждения; его пальцы так и барабанили по поручням. Внизу, в Потерянном Районе, готовили ужин на гриле. Ароматный дым поднимался клочковатыми фонтанами. В сухом кустарнике вокруг нас стрекотали сверчки. Артур засмеялся. Небо было ненатурального цвета, переходящего из розово-красного в оранжевый.