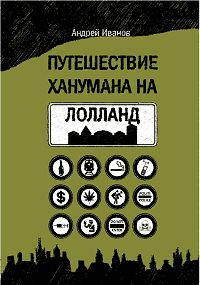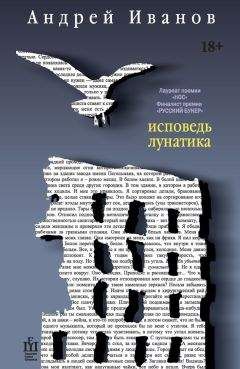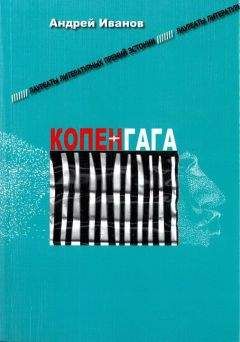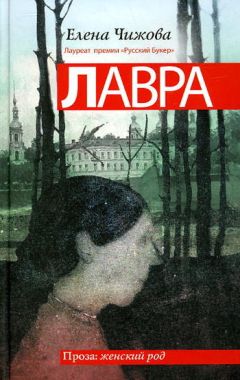Андрей Иванов - Путешествие Ханумана на Лолланд
Между тем мне становилось хуже; вино не помогало, а, казалось, стимулировало развитие заболевания. Я от него только потел; а от окна дуло…
Я пребывал в лихорадке, при этом чувствовал себя до болезненности оголенным; я превосходно соображал, анализировал, даже делал убийственные комментарии своим севшим, до жути изменившимся голосом; если кто-то входил, я сипел им в лицо: «Что, падлы, пришли проверить, не сдох ли я?!»; моя желчь отравляла атмосферу в комнате, все старались побыстрее убраться, и большую часть времени я был предоставлен себе и снедающему мою волю одиночеству.
Было жутко, я уставал от этого состояния обнаженности, повышенной тактильности души, будто содрали кожу и остались нервы; они болтались на моем скелете, как оголенные провода на каком-нибудь заборе. Я не мог ни провалиться в бред, ни заснуть; я смотрел воспаленными глазами вокруг, все понимал, и это было еще более болезненно, нежели любой кошмар. Потому что реальность, окружавшая меня и воспринятая в неожиданно обостренном, воспаленном состоянии, была как никогда бизарной.
То и дело я просил слабым голосом закрыть окно, но Хануман не уступал, говорил:
«Окно тут ни при чем! Ты скоро поправишься. С тобой сто раз случалось и не такое! И ничего, выздоравливал».
Я шипел:
«Да, я выздоравливал, да, но окно-то никогда при этом не было распахнуто!»
Но он отмахивался. Он не желал слушать. Ему было плевать. У него были планы, дела куда поважней! Я был списан в трупы. Меня осталось отнести в поле и зарыть в кукурузе! Он уже и за лопатой сходил. У него уже все было продумано. Этот Иван и этот Потапов – два идеальных могильщика. Он на них, кажется, рассчитывал. Они-то, по его планам, и похоронят меня.
Потапов изображал сочувствие, притворно участвовал в моем лечении, просил показать язык, кивал и вздыхал, засылал Ивана в магазин купить дешевого пива, пару бутылок, и украсть заодно бутылку крепкого вина, «того самого, ну ты помнишь» – «да-да, конечно…» Вот на это Иван был горазд, ну просто был мастер. Чемпион! Он не вызывал подозрений – у него такое было наивное лицо, такие трепетные черты, – ну разве человек с таким лицом мог что-то украсть? А он крал, крал это гадкое вино. Еще как! Каждый день: заположняк! Я навсегда запомнил это вино: крепленое, вишневое. У меня от него была сильная изжога. Бормотуха, да и только! Бутылка была такая солидная, такая пузатая, с маленьким латунным бокальчиком, встроенным в стеклянное тело бутыли. Оно было невероятно дешевым в Дании, это было собственно датское вино.
Хануман разогревал вино, бросал чили, Потапов жарил бекон, заодно прихваченный Дурачковым, пил пиво и бросал щепотку какой-то травы в вино… А когда меня поили, я из последних сил говорил, что, возможно, все из-за травы, которой я перекурил, у меня уже был однажды абсцесс, мне горло исполосовали, сказали, что мог умереть… Потапов говорил, что мне, скорей всего, вообще курить нельзя, если у меня такое горло.
– Тем более через кальян, – добавлял он. – А мы ведь через кальян курили, перед тем как тебя прихватило. Ну вот! Винные пары, должно быть, подействовали!
– Почему? – сипел я: мне было интересно дослушать эту чушь до конца.
– Дым, – развивал он мысль, – насыщенный винными парами, подействовал, точно! И вообще, тебе, вероятно, нельзя пить вино, даже горячее, тем более со специями! Эти чили просто разъедают тебе горло! Ты так совсем откинешься!
И он лишил меня вина, а я шипел:
– Закройте окно, пожалуйста…
Все говорили, что и правда, окно-то надо бы закрыть, но Хануман находил дюжину причин, по которым нельзя было закрывать окно. Одна из них меня просто взбесила.
– Окно надо держать открытым! – сказал он. – Чтобы постоянно шло проветривание, потому что мы дышим одним воздухом с больным! – И он многозначительно указал в мою сторону пальцем. – Мы тоже можем заразиться. Надо освежать помещение, надо изгонять микробы!
Это было созвучно с тем, что он тогда говорил про труп старика. Теперь Хануман держал окно открытым почти так же, как и тогда; у меня не было сил, чтобы выразить свое негодование. Но все же я сказал:
– Я сдохну! У меня начнется абсцесс! И кто, кто тогда меня повезет к врачу? Вы не успеете вызвать врача… Да ты, сукин сын, и не станешь вызывать врача! Потому что тебя могут спалить! Ты будешь смотреть, как я подыхаю, и приговаривать, как тому старику: «О, тебе уже намного лучше! Ты посвежел! Порозовел! Ты выглядишь намного лучше, чем час назад!» Так ведь?!
А Потапов говорил, что если надо будет что-то резать, то он всегда готов, у него даже инструмент есть, он на свалке нашел неплохой скальпель.
Меня это ничуть не успокаивало. Я снова попросил их – во избежание осложнений и оперативных или бог знает каких еще вторжений в свое горло – закрыть хотя бы окно. Но окно не закрывали. А мне становилось все хуже и хуже… Михаил тогда первый раз попытался заронить зерно раздора в мою голову. Он пришел и стал говорить о том, какой индус дурак, какой он тупой, как он не понимает, что человек болеет, а он не может окно держать закрытым. Я попросил его закрыть окно. Михаил закрыл окно. Но тут же вошел Хануман и открыл окно. Михаил попытался вступиться за меня, но тот его выгнал. Как только дверь за Михаилом захлопнулась, Ханни закрыл окно, подошел ко мне и спросил, о чем это мы тут толковали, потому что он был в туалете и слышал, что Мишель три или даже четыре раза повторил его имя. Я попросил Ханумана держать окно закрытым. Он некоторое время его прикрывал, но потом снова открывал. Спали мы как и прежде с открытым окном.
Один раз Михаил заслал Ивана к медсестре, чтобы та дала каких-нибудь лекарств; тот притворился, что у него болит горло, соврал, что была температура, что так, мол, и так… Но она сказала, что он должен пить воду, и отослала его…
– Вот сволочи! – ругался Потапов. – Они, эти лекари, всем так всегда говорят при любом случае, пейте воду, мол, пусть организм борется и чистится водой!
– Это потому, что водой своей они гордятся, – сказал я. – Ведь она самая чистая в Европе!
На третий раз медсестра все-таки дала Дурачкову какой-то порошок, но он мне не помог, и я начал отчаиваться.
3
Я лежал на верхней полке; как в купе; как в купе поезда Фарсетруп – Небытие; я лежал и ехал в никуда, а Хануман продолжал ехать на Лолланд. Он продолжал бредить Лолландом. Я подыхал, а он перетирал сказки про Лолланд.
Да, Хануман продолжал трепаться на каждом углу, собирать все новые и новые байки о Лолланде. Он уже знал людей, которые бывали на Лолланде. Он их встречал раньше, а теперь они жили в Ольборге и про них говаривали, будто они разок скинулись и слетали на Лолланд. Мне было плевать. Я не собирался ехать на Лолланд. Я лежал под торшером и маленькой книжной полкой. Я лежал под лампой, ощущая себя трупом в морге; лежал и ждал, когда начнется какое-нибудь заражение, что-нибудь фатальное, что и сделает меня трупом. Ждал, когда начнется деление клеток, рост опухоли, некроз или гной в кровь пойдет, и я пойду на тот свет. Но, думал, не-е-е-ет, я не пойду, а поползу, потому что я давно ходить не могу, я волоку свои ноги, бедные мои ноги…
Я лежал под торшером, проваливаясь все глубже и глубже в депрессию. Безразличный ко всему, я даже не заметил, как очень скоро мы в очередной раз оказались совсем на нуле. И снова из-за Потапова. Он снова уговорил Ханумана купить машину. Да сколько можно!..
На этот раз он сказал, что надо возобновить поездки за едой, а есть нам и вправду было нечего. Хотя плевать я хотел тогда на еду, я готов был подохнуть, просто так, как парижский клошар, без всякого сопротивления. Но не такой человек был Хануман: этот всегда хотел есть; для него поесть хорошо было важно; скорее, наличие еды было важнее, чем сам удовлетворенный аппетит, чем само набитое брюхо. Потому что это его как-то психологически удерживало на плаву.
Я как раз поправился… или мне казалось, что я поправился, – ведь Хануман мог просто меня убедить, что мне стало лучше, он мог воздействовать, как факир на змею, и я, как загипнотизированный, действительно мог начать чувствовать себя лучше. Непальская кошка отказывалась нас кормить; Иван денег не имел, потому что Потапов его вовлекал во всевозможные аферы. Они купили около сотни билетов бинго-лото, заодно купили граммов десять гашиша; они курили и проверяли свои билеты, несли какую-то чушь. Потом гашиш кончился; ехать за ним опять было невозможно, потому что юлландские компостеры были как заговоренные: поддельные билеты не проходили. Тут еще пошли слухи, будто появились люди в форме, останавливают автобусы на тех линиях, где чаще всего ездят азулянты, проверяют билеты, просвечивая их каким-то прибором на предмет подделки. Многие попадались; штрафы давали просто баснословные. Ехать вчестняк никто не хотел. Тратить сто крон только на поездку было невыносимо. Поэтому снова требовалась машина! «Форд» после ночного вояжа с Гораном в Ольборг так больше и не завелся…