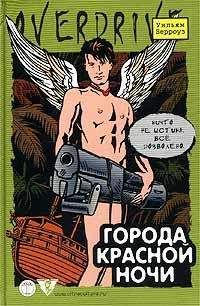Клаудиу Агиар - Возвращение Эмануэла
За время, что мы разговаривали, не помню, в связи с чем, мне несколько раз вспомнилась Жануария — то улыбающаяся на коленях у Блондина, то убегающая от него. Хотя в действительности, после преступления, совершенного на фазенде старого Кастру, ее мужа, именно Блондин сбежал как оглашенный, такой напуганный, что у меня создалось впечатление, будто он совершил что-то ужасающее. Но что конкретно? Почему он ничего не рассказывал о том, что там произошло? Какую уловку он придумает для оправдания себя?
Находясь рядом с ним, я хотел знать правду. Раньше — например, в его картонном убежище под мостом — он избегал этой темы самым категоричным образом. Я помнил, что он просил никогда больше не говорить с ним об этом. Почему? Почему женщина вызывала у него такой страх? Может быть, угрызения совести? Наверняка! Угрызения совести могут сломать даже самых сильных. Говорят, что даже палачи страдают от постоянных кошмаров, вспоминая свои действия. Им снится, как их вешают, расстреливают или душат с помощью удавки, — точно так же, как они сами казнили своих жертв. Они верят, что всего лишь выполняют обычную работу, за которую государство выдает им зарплату, считают себя невиновными, но тем не менее отказываются обсуждать эту тему. Блондин за все дни, что мы провели вместе, не проявил ничего похожего на угрызения совести. Возможно, мне всего лишь показалось, что он хотел любой ценой забыть прошлое. Неужели Блондин — монстр, холодный и неисправимый убийца?
Не удержавшись, я стал расспрашивать его о Жануарии. Блондин вскочил и выкрикнул:
— Я же говорил тебе, Эмануэл, что не хочу слышать даже имени этой женщины!
Над нами нависла тишина, и остальные заключенные повернулись в нашу сторону, ожидая привычной для тюремной камеры разборки. Но так как я молчал, Блондин снова сел на свое место и спокойно продолжил:
— Мы не должны разрушить радость от нашей встречи вопросами, которые ни к чему хорошему не приведут. Кроме того, я в любой момент могу отсюда выйти. Адвокат хлопочет о моем освобождении. Я выйду отсюда с поднятой головой, в значительной степени благодаря тебе, Эмануэл! Помнишь о том пакетике, который ты держал на коленях, как будто это были яйца, когда мы подвозили тебя на машине, — там, на шоссе, недалеко от Сан-Паулу? Так вот, дорогой, это «золото» упало на Ресифи, как манна небесная, и спасло много жизней. Из-за него я нахожусь здесь с тобой. Вроде, как мне — крышка. Но будь уверен, скоро я выйду! И это потому, что ты никуда не задевал этот пакет. Я тебя вовек не забуду, где бы ты ни был! Кстати, скажи мне свой адрес в Сеара. Знаешь, этот шарик крутится так быстро, что, кто знает, может, в один прекрасный день я заеду туда и познакомлюсь с твоей семьей, посмотрю на твои родные места, на море.
Блондин, записывая мой адрес, улыбался, а я, давая разъяснения, как меня лучше найти, одновременно молил Бога, чтобы этот день никогда не наступил. Закончив писать и спрятав бумажку, он сообщил мне, что не дает своего адреса, потому что живет как цыган, без постоянного пристанища.
Мы замолчали. Я стал наблюдать за другими заключенными. Сняв рубашки и брюки, они остались в одних трусах. Жара нарастала, и просто не было другого выхода ей противостоять. Я удивился, как быстро привык к дурному запаху в камере. Я уже не сдерживал дыхания. Воздух свободно проходил в мои легкие…
Дверь открылась настежь, и голос старика-ключника выкрикнул несколько имен. Я не расслышал их, но тут же понял, в чем дело, потому что Блондин меня обнял со словами: наступила моя очередь, Эмануэл. Я поднялся и, крепко прижав его к себе, почувствовал, что возвращается состояние, которое испытывал, когда кусал его за уши и вытворял такое, чего никогда не мог себе и представить.
Не выдержав этих воспоминаний и боли от того, что остаюсь здесь один, я заплакал на плече у Блондина, сам не знаю, от ненависти или от тоски. Со мной происходило что-то странное, непередаваемое словами. Стараясь утешить меня, Блондин запустил свои пальцы в мои жесткие волосы и, взволнованный, пробормотал мне в ухо:
— Обязательно сделаю что-нибудь для тебя, Эмануэл! Прощай!
Он отстранился от меня. А когда я поднял взгляд, чтобы в последний раз увидеть его, то едва успел различить силуэт знакомой фигуры, исчезающей в дверном проеме. Я почувствовал себя еще более одиноким и покинутым. И при этом невольно возник вопрос: кто подтвердит мои показания, когда люди из полиции будут обвинять меня в преступлениях, которые не совершал?
Какой странный сон! В воде плясало отражение тонущего мальчика, который нежно, как самый близкий друг, обнимал меня. Выйдя на берег, мы, среди множества других детских секретов, сохранили в тайне нашу невинную игру. Но позже, с высоты юности, в ней открылось дыхание приговоренного к смерти.
Во сне мы часто в равной степени преувеличиваем и преуменьшаем наши желания. Юноша, опустившийся на землю рядом со мной, одновременно был и не был Блондином. Вдруг оказалось, что у него густые вьющиеся волосы — такие, как у ангелов, выточенных из мрамора или из дерева. Временами он становился похожим на Лауру, моего друга, которого я спас не из воды, а вытащил из колодца, предотвратив падение на торчавший из глинистого дна лом. Это Лауру обнимал меня, когда пришел в себя и, открыв глаза, бормотал что-то невнятное. Однако порой смотревшие на меня глаза со всей очевидностью принадлежали не Лауру, а Май-да-Луа, моему товарищу из Писи, рассказывавшему истории, очень непохожие на те, что рассказывали другие. Ему как будто доставляло удовольствие открывать свой большой рот, и губы, сами собой округляясь, принимали форму луны… А через мгновение со мной разговаривал Сайкала, всеобщий любимчик, потому что именно он преподавал нам первые уроки так называемых «сексуальных проделок». Родители — уж не знаю, правильно или нет — на этот счет скрытничали, что делало нас неподготовленными к реальной жизни, к случайным встречам. Сознательно или нет, тем самым нам причинялся непоправимый вред.
В результате, Сайкала превратился в ежедневную необходимость, в грех, помноженный на тысяча и одно удовольствие. И он являлся в моих снах, сопровождаемый страхом прикоснуться к его телу, принять его ласки или быть отвергнутым им, так как мое поведение отличалось от поведения остальных, собиравшихся вместе, чтобы поделиться своим новым опытом. Не помню, кто мне сказал, что поступки Сайкалы не выходили за рамки нормальных проявлений храбрости. Остальные, включая меня, были трусами, потому что нам не хватало мужества принять свои недостатки или достоинства. Теперь, когда жизнь научила меня другой правде о мужчинах, я мог бы даже признаться в своих слабостях другу. Поэтому, все еще во сне, я протянул к нему руку, точно не зная, кем же он был, — Сайкалой, Лауру, Май-да-Луа или Блондином. Помню только, что это был кто-то, хорошо подготовленный к диалогу. Сон длился всю ночь, то уходя, то возвращаясь, повторяясь или добавляя что-то новое.
Вероятно, поэтому я не заметил, как солнце просочилось в ту же оконную щель, и заключенные занялись своими обычными делами. Несмотря на все тяготы, в тюрьме царила железная дисциплина, которую устанавливают прежде всего старожилы. И мне пришлось приспосабливаться.
Наступление нового утра вернуло меня к действительности. Я был в тюрьме на улице Аврора, а не в Писи, и меня укачивало не море, а сонные волны моего сознания. Сколько дней прошло? Или месяцев? Я не мог точно вспомнить, потому что здесь внутри все так спуталось, стало настолько сумбурным и трудным, что единственная надежда, представьте себе, была связана с тем, что ты мог видеть сны, сны, сны… окунаться в иную реальность в поисках хоть какого-то убежища.
Была настоятельная необходимость не замечать утра, наступавшего с приходом солнечного света, не думать о прошлом, настоящем и будущем. Надеялся ли я вообще на что-либо? Там, внутри, я сомневался во всем. Календарь утратил свое значение: год, месяц, день, минута, секунда уже давно не обозначали ничего, кроме расплывчатых, повторяющихся образов, походивших в отсутствии новостей на дым от сигарет, которые удавалось выкуривать некоторым заключенным. 1964 или 1968? Какой сейчас месяц? Март или декабрь? Какое число? 31 или 13? Не все ли равно! Уменьшать количество лет, увеличивать число месяцев или переворачивать листки календаря почти не имеет смысла для того, кто без какого-либо объяснения обречен на изоляцию. А если не знаешь точно, который час, все остальное тоже становится чем-то неопределенным: летящее время — любой отрезок «вчера», «сегодня», «завтра»…
Я поднял голову и не спеша направился к самому яркому солнечному зайчику. Там сгрудились зрители — три человека, впритык друг к другу. Подошел поближе. Великолепное развлечение для всех нас: солнечные лучи, достигая мокрого пола, включались в игру, достойную быть увиденной. Одни наслаждались тем, что наблюдали, как медленно движется солнце, глядя на его косые лучи, образующие на полу скользящее пятно, четко очерченное темнотой.