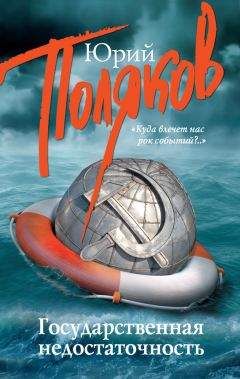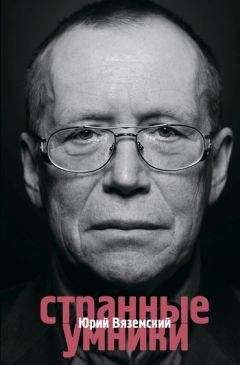Наталия Червинская - Поправка Джексона (сборник)
Так вот, Трамп захотел построить небоскреб, все жильцы съехали, а бабушка не съехала. Отказалась. И пришлось Трампу строить вокруг бабушки. Она уже давно умерла, а небоскреб так и стоит с вмонтированной в него маленькой халупкой.
Вот и администрации здания на Пятой Авеню пришлось построить Бледному Самцу новое гнездо, со специально спроектированным поддоном для сбора помета. Жена снесла яйца. За первым самостоятельным полетом благополучно вылупившихся птенцов следили сотни жителей города, вооруженные биноклями и телескопами.
Заодно они надеялись подметить какие-нибудь интересные детали из жизни людей с доходом более десяти миллионов в год.
Там, наверху, где витает Бледный Самец с крысой в клюве, там шпили, и купола, и гигантские деревянные цистерны для воды. Их множество. Эти дощатые бочки на железных ногах, с коническими крышами похожи на спустившийся с неба десант инопланетян. Как будто не хватало нам всех других — еще и марсиане эмигрировали.
Строят эти бочки в течение многих уже поколений, с начала девятнадцатого века, два семейства мастеров. Редкая удача — увидеть их там, наверху. Они сидят на краю цистерны, на высоте двадцати-тридцати этажей, болтая ногами. Там, говорят они, не слышно шума городского, и суеты нет, и приятно поглядеть вверх на небо и вниз на человечество.
Трудно представить себе более высокую аристократию, чем эти поднебесные бондари…
Разве что — еще выше, на самом верху, видите, видите?
Тучи несутся между небоскребами стремительно быстро, как в ускоренной съемке.
И гигантская обезьяна Кинг Конг с зажатой в кулаке блондинкой взлетает, как акробат, карабкается по фасаду.
И летят над городом геральдические его символы, святые его комиксов, всесильные его покровители: Паук, Летучая Мышь, Супермен.
Всех суперменов и героев комиксов, гротескные святцы города Готэм, знаете, кто их выдумал? Их выдумали в сороковых-пятидесятых годах тихие интеллигентные мальчики из Бруклина и Бронкса, очкарики, чьи семьи бежали из Европы. Их звали Шустер, Сегал, Фингер.
Хорошо живется городу, который не обижает своих евреев.
Раз в год, осенью, в сентябре, поднимаются в небо два столба света, два световых призрака. И удивительно, и страшно видеть тогда, как по ночному небу приближается к светящимся колоннам самолет и пронзает одну, и потом другую, пролетает сквозь неуязвимые призрачные башни… И самолет летит дальше по темному небу, обычный рейсовый самолет, в свой Денвер или Лондон.
Нет, никого у нас особенно не обижают.
Перед райсоветом — мэрией — Бруклина установлен плакат, поздравляющий граждан с праздником Рамадана. Повсюду реклама арабской торговли недвижимостью. Район густо-арабский, тут должна быть очень хорошая еда. Но — Рамадан, а до заката еще далеко, поесть не удастся.
Благородного вида белые старички-добровольцы раздают листовки. Такие старички традиционные, англо-саксонские, сухощавые, что теперь уже и экзотические. Со Среднего Запада они, что ли, приехали? Нет, местные они: члены расистского общества Джона Берча. Листовки у них о вреде иммиграции. Ничего, пусть и старички порадуются напоследок.
Огромное не бывает обаятельным и не вызывает умиления. Как любить город, который к тебе равнодушен?
Нью-Йорк обаятелен почти с первого взгляда и, когда узнаешь его хорошо — умилителен. Его любишь, как домашнее животное, как большую собаку.
Глупо, конечно, испытывать к Бруклинскому мосту чувства, которые обычно испытываешь по отношению к любимым домашним животным.
Но, видимо, каждому человеку выдается на жизнь как оборотный капитал, как фишки в игорном доме, некоторый запас, некоторое количество любви. И этот запас надо обязательно весь целиком растратить. Если не рискнуть, не поставить на кон, хорошего ожидать не приходится. Оттого и кошки у старой амстердамской блудницы, а у моей Дашеньки — водочка, а у меня — дурацкая моя любовь к городу, от которого доброго слова не дождешься.
Что я — весталка какая при храме? Что ли меня с Бруклинским мостом обвенчали?
Вот в грязном окне плакат рукописный, исписан тесно и убористо, от края до края, так шизофреники пишут. Еще и в пленку завернут, какую в химчистках дают. Это и есть химчистка, прачечная. В окне для красоты были когда-то поставлены старинные угольные утюги, портновские манекены, все это не сдвигалось полвека и покрыто древней пылью.
И наверняка написано на этом плакатике, что лавочка закрывается, потому что хозяин уходит наконец-то на пенсию или потому что ренту повысили…
Нет. Вот что на плакатике написано:
Это не окончательная жизнь.
Это репетиция. Это не премьера, а только репетиция. Если бы это была премьера, то вы бы уже знали, что надо говорить и что делать.
Это — репетиция.
Это учебная тревога. Это не настоящая катастрофа. Если бы это была настоящая катастрофа, вам бы заранее объяснили, куда эвакуироваться и что брать с собой.
Это — учебная тревога.
Это контрольная работа. Это не экзамен. Если бы это был выпускной экзамен, вы бы уже знали весь материал и выучили правила.
Это — контрольная работа.
Это не окончательная жизнь…
— Ладно, — говорю я, — ладно. Хватит, хватит. Я все поняла, спасибо. Конечно, ты врешь, как сивый мерин, и все это ерунда. Но дорог не подарок, дорого внимание. Спасибо на добром слове, город.
Ближние
Как всегда, засиделись допоздна как раз не самые интересные люди, а те, кого он даже и приглашать не очень хотел. Две одинокие женщины, все не решавшиеся встать и уйти и тем самым признать, что вечер опять прошел безрезультатно. И давний, вернее, уже бывший приятель, постепенно в одиночестве спивавшийся.
Все трое пытались вести себя весело и развязно, особенно чересчур наряженные и напряженные женщины: они знали, что уходить надо и как можно скорее, иначе каждая лишняя минута будет завтра вспоминаться, прибавлять унизительности. Дам пригласили в последнюю минуту, и одна, старая дева, даже почти собралась отказаться и затаить горькую обиду.
Алкоголик позвонил и напросился сам, но он об этом не помнил. Ему уже через полчаса начало казаться, что его долго и настойчиво звали, что старый друг — отличный парень, восходящая звезда науки, что это новоселье станет переломным моментом в их жизни, что теперь он будет часто приходить в этот отличный, уютный семейный дом — и жена-то у друга красавица, умница, отличная девка, — что здесь, в этом просторном доме, окруженном деревьями, они снова начнут вести увлекательные ночные беседы, как когда-то на тесной кухне, и выпивать — но понемногу. Или даже помногу, но весело, весело, как когда-то…
Алкоголик пытался налить себе на дорожку, а хозяин, перестав даже притворяться хорошим хозяином — шел второй час ночи, — довольно грубо вырывал из цепких рук гостя последнюю оставшуюся бутылку и повторял: «Хватит тебе!».
Он уже унес все блюда и рюмки на кухню, уже вода шумно лилась на грязные тарелки, а гости всё не вставали из-за пустого стола, звали присоединиться, посидеть напоследок. Чего они от него-то ждут? Нашли спасителя.
Отдать последнюю рубашку всякий дурак может — вот алкаш всегда был на это любитель. А ты попробуй дать людям то, чего и у тебя самого нет: душевное спокойствие, равновесие, понимание. Попробуй это дать ближнему. Это тебе не последняя рубашка, тут шкуру с себя сдерешь.
Чем можно помочь? Вот алкаш — ведь была же в человеке когда-то и вправду искра, возможно, что и гения, и интуиция поразительная. Когда-то разговаривали они часами. Треп их по тем временам был опасен, что придавало трепу характер активного действия, почти что политической акции. Он потерял к этим разговорам интерес, как только пропал элемент опасности. Как человек, занимающийся точной наукой, он уважал интуицию, знал по опыту ее ценность и редкость; однако у алкаша на моменте интуиции все и кончалось. Он жил внутри момента, внутри одного бесконечно повторяющегося дня.
А теперь тонет человек, погибает в каком-то неуправляемом потоке энтропии, а попробуй его вытащи — он и себя потопит, и благодетеля.
Вот христиане новообращенные разлетаются к тебе со своей любовью, думал он, в первый момент и в самом деле как дурак веришь, что ты им так понравился. Но достаточно скоро оказывается, что они на тебе практикуются, что ты не более как ближний, которого надо на скорую руку полюбить, как самого себя. Только ведь это не чувство, а идеология, а идеологию, отвлекшись, забыть можно. Чувство-то, любовь, — оно потребность, его не забудешь. Оно мучает, как голод или жажда.
Эти раздраженные размышления относились более всего к его жене, женщине молодой, талантливой и увлекающейся; и увлекшейся года два назад, ни к селу ни к городу, религией, отчего начались у них гораздо более серьезные раздоры, чем когда-либо раньше. Он не мог удержаться и слишком много иронизировал над ее новообретенным и чисто умозрительным благочестием, которое никак не выражалось в снисходительности к ближним, к непосредственно и реально ближним — вроде него самого.