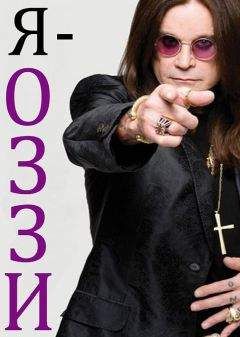Янош Хаи - Парень
Мари однако стояла на своем: да она вовсе не ради ликера, а просто из азарта, ведь это вроде того, как царь велит добру молодцу пойти и победить дикого вепря, — такие народные сказки она читает своим первоклашкам или второклашкам, когда видит, что они устали и нет у них настроения заниматься арифметикой. В общем, считайте, что это — подвиг Геракла, сказала она и встала, чтобы пойти в директорский кабинет. И пошла.
Бабы похихикали, потом с нетерпением стали ждать, когда дверь откроется и Мари, которую однажды так унизил предприниматель, появится на пороге. Да не просто появится, а вылетит, вся красная от нового унижения, и скажет: этот урод, нет, это такой урод, девки, с ним точно, где сядешь, там и слезешь. Или того хуже, педофил. В самом деле, может, он и в школу-то для этого поступил. Потому что из него ведь могло бы выйти что-то другое. Вон родители его твердили, что из него выйдет что-то совсем другое, вроде ученым он станет и в Будапеште будет жить. Да не вышло из него другого, а в школу он пришел, чтобы детишек щупать. Есть такие мужики, это у них вроде болезни, да еще и не самая поганая болезнь. Говорят, бывают такие, что людей убивают и разрезают на кусочки, ну, а прежних жен держат расчлененными в морозильной камере. Чего только не бывает на свете. Очень мало теперь нормальных мужиков. Да и как оставаться нормальными, если мир такой. Вон и климат, говорят, меняется, какое-то глобальное потепление, а в других местах, наоборот, похолодание, от этих скачков глобальных и с людьми черт-те что творится, они даже не то чтобы звереют, а хуже, потому что у зверей такого, чтобы убить и расчленить, такого нет. Словом, то, что наш парень не ученым стал, а директором школы, тоже, наверно, следствие глобальных изменений, и в школе он может, не бросаясь в глаза, удовлетворять свои педофильские наклонности. Раньше еще говорили, что он, может, священником станет, а в священники-то люди зачем идут? Именно за этим. Не ради святого причастия или там загробного блаженства, а чтобы на уроках закона божьего детишек гладить в разных местах. Кто нынче думает о царстве небесном? Да никто, ни одна живая душа, а может, и вообще никто никогда не думал, все это выдумано, и не только царство небесное, оно-то ясно, что выдумано, но и то, что были такие эпохи, когда люди в самом деле верили в загробное царство и в то, что они там воскреснут. Сначала умрут, а потом снова оживут, такими существами, вроде как из воздуха, и ничего у них не будет болеть, думали училки, ожидая, когда Мари пробкой вылетит из кабинета.
Но она все не вылетала. А когда, спустя долгое время, вышла наконец, то была раскрасневшаяся, но совсем по-другому, не от стыда. Глаза у нее блестели; она посмотрела на замерших коллег и сказала: ну, покупать «Бейлис» пока не надо, но деньги постепенно собирайте. Лица у коллег не выглядели счастливыми. Они едва сдерживали себя: да неужто этой девке, которую даже король подштанников — так они называли меж собой предпринимателя — вышвырнул к чертовой матери, неужто ей удастся покорить директора, который гомик и педофил, да еще и алкоголик… Не валяй дурака, — сказала наконец одна, — да как же можно с таким-то! Да на него же без слез не глянешь, а если долго смотреть, а тем более целую жизнь… Ну, до этого еще далеко, ответила Мари, пока так, что-то наклевывается, а потом — не думайте, что кто выглядит более-менее ничего, тот таким и останется: к сорока уже никакой разницы, все будто на одну колодку.
26
Что произошло в директорском кабинете, никому точно не известно. Дело, скорее всего, было так: наш парень, приходя в себя после вчерашнего, достиг в душевном своем состоянии той стадии, когда ненависть кажется повсеместной, когда тебя переполняет чувство, что отец небесный весь этот бардак для того только и сотворил, чтобы довести тебя до ручки, чтобы уничтожить тебя живьем, чтобы поселить в твоем сердце такую боль, которую вынести почти невозможно, но при этом и пальцем не пошевелил и не пошевелит, чтобы хоть как-то смягчить, а тем более прекратить твои муки, потому что вместе с болью он дал тебе волю к жизни, которая, непонятно как, но не позволяет тебе, махнув на все рукой, взобраться на чердак, как — и тут наш парень вспомнил одно имя, это, собственно говоря, был его родной дядя, так что между ними была генетическая связь, — словом, дядя этот взобрался на чердак и повесился, оставив сиротами двух детей. Эти двое детей были нашему парню ровесниками, то есть один, понятное дело, был помоложе. Парень наш, после того как это случилось, первое время жалел их, потом, став подростком, стал им даже немного завидовать, это было в те годы, когда он уже испытывал презрение и отвращение к своему отцу, к его запаху, к его одежде. Он думал о том, что дядя, собственно, избавил своих детей от необходимости ненавидеть его, и поэтому парень, вразрез с общим мнением, да и со своим собственным, прежним, считал двоюродных братьев счастливчиками. В нем самом, в нашем парне, не было такой силы духа, чтобы последовать примеру дяди, или, вернее, в нем было ровно столько силы духа, чтобы, несмотря на боль, примеру этому не последовать.
Дядя смог это сделать — из-за женщины. Любовь, пожалуй, единственное, что способно пересилить, переиначить даже волю творца. Потому что если она, любовь, есть, то только благодаря ей ты можешь избавиться от ужаса, что бесконечное время творца поглотит, раздавит твое крохотное персональное время и ты умрешь, — ты не думаешь ни о том, когда это случится, ни о том, как это произойдет. Именно за это неповторимое ощущение свободы творец всегда ненавидел влюбленных, и вся его энергия, которую он, после того как сотворил мир, оставил на текущий ремонт и прочую профилактику, сконцентрировалась главным образом на том, чтобы по возможности запутать, замутить это человеческое чувство. Несть числа трагедиям, которые он причинил и причиняет тем, кто любит. Но ведь вот какая штука: он настолько озлоблен на влюбленных, что часто действует в ущерб собственным интересам, как, например, в случае с дядей, который благодаря любви выбрал не жизнь, а смерть, но в этом точно так же вышел из повиновения творцу, как и счастливые любовники. Конечно, дяде вряд ли было бы приятно узнать, что то, что он думал о своей жене — а думал он следующее: пока он ходит по лесам, потому что он вообще-то лесник был, должность, между прочим, очень хорошая, он и дрова получал даром на зиму, и знал все грибы, так что они самые вкусные грибы ели целыми кастрюлями, да еще и на зиму сушили. Была у них в саду небольшая тепличка, которую тоже дядя построил, весной там рассаду выращивали, паприку, помидоры, потом салат; салат и на продажу шел. А когда сезон заканчивался, полки в теплице заполняли порезанными грибами, и потом всю зиму ели грибной суп. Ну, и должность эта потому еще очень хорошая, что ты свободно себя чувствуешь, ни от какого начальства не зависишь. В лесном деле ведь невозможно предписать, где, куда и когда ходить, а потому начальству там делать нечего. Конечно, оно известно, что, скажем, в лесах, которые относятся к соседней деревне, наш лесник не появится, но что с этого толку: его все равно не найдешь, как если бы он ходил и в тех лесах, ведь лес — это лес, и даже небольшая его часть слишком велика и непроглядна. Много в такой работе свободы, ну, и одиночество еще, так что у дяди нашего парня была возможность думать, вот он и думал обо всяких вещах, о растениях, о доме своем, о детях, которых он очень любил; потом очередь и до жены доходила. Шагает он меж деревьев, как какой-нибудь герой греческого мифа, и представляет себе волосы жены, ее кожу, представляет все, что он бы с ней делал, окажись она тут, в лесу. Конечно, приходила ему в голову и мысль, что бедняжка сейчас дома одна. Он — в лесу от зари до зари, иногда в лесу и ночует, потому что охотники по лесу бродят, браконьеры, ему за всеми надо присматривать. Ходит он и думает: как, должно быть, ей там плохо одной. И когда дошел он до этой мысли, тут ему и подумалось, что она ведь может найти себе утешение. Вспомнился ему вдруг мужичонка один, небольшой начальник в кооперативе, малая шишка, как говорили в деревне, у него и фамилия была — Киш[26], и росточку он был небольшого, так что во всем своей фамилии соответствовал. И все знали, вся деревня в курсе была, что мужик тот на всех баб бросается, кого ни увидит, тут же приударит: известное дело, недоростки недостаток свой постоянно норовят как-нибудь компенсировать; этот вот компенсировал за счет баб. И ведь мужичонка этот, размышлял наш лесник, и живет-то недалеко от их дома. Да что недалеко — близко совсем. И тут наш лесник, не особенно даже напрягаясь, словно ему ветром эти картины в голову нанесло, представил, как произошел тот случай, который вообще-то не произошел. Больше того: все, что нашему леснику вспоминалось, а потом все, что он замечал, все вроде бы подтверждало его черные мысли. Подтверждало то, что он придумал, а не то, что произошло на самом деле, а вернее сказать, не произошло. Например, если тот мужик здоровался с ними на улице, то нашему леснику казалось, что с ним он здоровается как-то снисходительно, даже с некоторым презрением, а с женой — так уж ласково, что прямо слюной исходит. С ним — сервус, и все, и это «сервус» звучит как: «эх ты, недотепа, ты там таскаешься по лесам, а я в это время твоей бабе тут засаживаю, ты там с елочками-березками разговариваешь, с косулями в салочки играешь, а я твою жену обрабатываю, в твоей же постели». В конце концов наш лесник взбеленился и потребовал от жены ответа, та, конечно, возмутилась, и в этом ее возмущении лесник наш увидел самое неопровержимое доказательство ее измены — и совсем почернел от горя. А после этого — а, не стоит и рассказывать, что еще было, какие скандалы, и не раз, а десять раз, и в конце концов, после очередного скандала, лесник наш полез на чердак и повесился. Может, только для того, чтобы припугнуть жену, и это ему вполне удалось, она в самом деле перепугалась, когда поднялась на чердак, чтобы взять немного крупы или зерна для кур. Подходит она к груде зерна — и видит в полутьме, что муж там висит. Ты чего там делаешь, — спрашивает она; муж, конечно, не отвечает, и ей пришлось на свой вопрос ответить самой: умер он, вот что он там делает. Хотя причины у него не было, сделал он это, то есть умер, без причины, ведь между женой и тем мужичонкой ничего даже не начиналось. Началось только после смерти мужа: ведь своей беспричинной ревностью он, против своей воли, привлек-таки внимание женщины к этому мужику. И спустя некоторое время после похорон, месяцев, может, через пять или шесть, возникла-таки у них тайная связь, тайная, потому что мужик был женат. Из-за этой тайной связи вдова лесника не смогла больше выйти замуж, и, не считая быстро пролетающих часов, когда наш мелкий мужичонка забегал к ней с той целью, с какой мужики забегают к таким вдовушкам, если этого не считать, то прожила она свою жизнь в одиночестве, и в старости никого не осталось с ней рядом. Дети ее покинули, потому что для них ее связь с тем мужичонкой, возникшая позже, стала однозначным доказательством того, что у отца были все основания повеситься. Как только появилась возможность, уехали они подальше от деревни, сначала учиться, потом работать, и мать, которую они в душе считали убийцей, больше того — отцеубийцей, то есть убийцей их отца — они никогда больше не навещали. Словом, была в этой семье генетическая предрасположенность к тому, чтобы раз и навсегда положить конец боли, однако у нашего парня эта предрасположенность не срабатывала — потому, может быть, что не было рядом с ним или на достижимой дистанции такой женщины, как жена лесника.