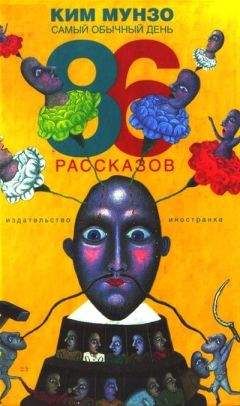Геннадий Головин - День рождения покойника
Приезжавших-отъезжавших было в поселке много, а Джека с Братишкой — раз-два и обчелся. Никакой нервной системы (даже собачьей) не хватило бы оплакивать каждую разлуку. А если бы и хватило, то очень нервная сделалась бы вскорости та система.
Едва поезд исчезал, и платформа скучно пустела, псы бодро-весело отправлялись восвояси.
Джек, конечно, опрокидывал по дороге все мусорные урны, услаждаясь их дребезгом и содержимым. Братишка — трусил целенаправленно и задумчиво, словно впереди у них была еще масса недоделанных дел.
Он держал в памяти десятки дач, где к ним благоволят, и в эти минуты, я думаю, прикидывал, кого бы еще им нынче навестить.
Почти всегда в этот час они прибегали к нам.
Они и на дню у нас появлялись — и не раз, и не два. И рано утром. И поздно вечером. Но мы особенно ценили их появление именно вечером воскресного дня. К этому времени собаки были сыты до последнего уже предела, и никакой, стало быть, корысти не могло быть в их визите, единственно — желание дружески пообщаться с людьми, им симпатичными…
Джек и Братишка действительно относились к нам с симпатией. Более свойски, я бы сказал, нежели к другим жителям поселка. И этому были, безусловно, причины.
Я думаю, что собаки уже давно догадались, что мы — на особицу среди прочего дачного люда, что через месяц-другой, едва зарядят дожди, мы не бросимся, как все остальные, тикать в Москву. Знакомство с нами, чуяли Джек с Братишкой — это знакомство надолго. Может быть, даже, чем черт не шутит, — на всю зиму.
И они, конечно, не ошибались. Мы и в самом деле никуда не собирались тикать. По той простой и веской причине, что тикать-то нам было некуда.
Мы недавно поженились. Жилья в городе не было, если не считать девятиметровой комнатенки, жить в которой вдвоем (а к тому времени можно было уже говорить «втроем») не было никакой возможности. Так что мы решили перезимовать, если сумеем, в этом поселке — в доме, куда нас из милости пустила пожить престарелая тетка жены.
Мы не сразу решили это. А когда все же решили, интересный момент, что-то быстро и ловко изменилось — и вокруг нас (мы, должно быть, на все стали смотреть новыми глазами, глазами не дачников), и в нас самих. А собаки, конечно, перемену эту мгновенно почуяли. И относиться к нам стали совсем по-иному, чем к остальным. Я уже говорил: «Как к своим…»
* * *Уже наступала осень. А с нею и хлопоты, о которых мы понятия не могли иметь, живя в городе. Нужно было запасать на зиму продукты, дрова. Дом необходимо было хоть как-нибудь подготовить к холодам. Завезти надо было газ в баллонах, перетащить из Москвы книги и словари для работы… Забот хватало, что там говорить, но надо сознаться, что все это были ужасно приятные заботы — робинзоновские.
Дел было невпроворот и у наших псов.
Пришла пора переездов, и что ни день в тишайшем нашем поселочке ревели, оскорбительно и бесцеремонно, грузовики, доверху заваленные дачным скарбом.
Джек срывал себе голос, по нескольку раз на дню ввязываясь в сражения с ненавистными своими врагами.
Машины, грузно переваливаясь, ползли по тесным улочкам, исторгая (явно в желании побольше напакостить напоследок) изобильные клубы сизого выхлопа… Джек бросался им прямо под колеса. Норовил впиться клыками в шины, хрипел, безумствовал. Просто чудо, что каждый раз он оставался в живых.
…Машины подползали к шлагбауму на краю поселка. Натужно взбирались там на асфальт.
Секунду, будто собираясь с духом, стояли и, — скрежетнув сцеплениями, воодушевленно взвыв моторами, — вдруг уносились прочь!
С освобожденной радостью какой-то. С торопливостью — ужасно обидной для нас, остающихся… Напоминало какое-то бегство. Эвакуацию напоминало — в преддверии неумолимых ненастий, жуткого неуюта, дождей, холодов.
Что скрывать, нам тоже хотелось в те дни уехать. Все нас покидали.
Собаки появлялись на нашем крыльце изредка. Словно бы только показаться: «Вот мы. Никуда не девались. Просто, извините, дел по горло!»
И снова убегали — вертеться под ногами у отъезжающих, принимать изобильные прощальные ласки и, что, конечно, немаловажно, помогать по мере сил в очищении холодильников.
Холодильники, разумеется, интересовали Джека с Братишкой очень. Но скажите, сколько могли съесть даже такие бравые обжоры, как наши дворняги? Два, три, четыре кило колбасы? Две-три кастрюли какого-нибудь борща? Пожалуй. Но не больше. (Молоком, заметьте, и кондитерскими изделиями они пренебрегали.)
И вот, будучи уже до безобразия сытыми, с боками, круглящимися, как мандолины, они все же продолжали крутиться среди отъезжающих, самое деятельное участие принимая в хлопотах и сборах. Почему, спрашивается?
Я так думаю, что им ужасно нравилась сама атмосфера предотъезда. И не только суетня-беготня, похожая на игру, не только взвинченность, почти праздничная, голосов, жестов и походок. Им — нравились люди! Именно такие, какими они становятся перед всякой разлукой — трогательные, добрые, маленько беспомощные, чуть встревоженные, грустно-ласковые…
Если у псов существовала в воображении некая модель идеального собачьего мира (а она, несомненно, существовала), то люди, я думаю, населяли его именно такие. Я уже давно заметил, что Джек с Братишкой стараются, чтобы вокруг них не было глупых, жестоких, эгоцентричных людей. Не то чтобы они их боялись или избегали. Они их просто старались не замечать. (Как Братишка обидевшего его Закидуху.) И прямо-таки восхищения достойно, с какой быстротой и проницательностью разбирались они в людях.
Разумеется, кто-нибудь скажет, что можно и нужно все в собачьем поведении объяснить проще — инстинктами там, рефлексами и пр.
Все можно объяснить проще. Для таких занятий тьма нынче развелась шизофрейдов. А я этим заниматься не хочу. По одной очень простой причине: я Джека с Братишкой знал.
* * *Итак, народ разъезжался.
Все меньше загоралось по вечерам окон в поселке.
Ночи стали черны и беспокойны.
Осень пришла — непоправимая осень.
Она не вдруг, конечно, упала. Не так, как приходит, например, зима. Ее присутствие мы и раньше замечали, но… Но — не желали замечать.
(Ну, к примеру, как женщина, которая не может не видеть в зеркале всяких досадных ненужностей на лице — морщинок, складочек, мешочков, — не может не видеть, ежедневно глядясь в зеркало, но не видит. И лишь через время, — когда грянет вдруг одиночество, неудача, болезни какие-нибудь, когда опустятся внезапно уставшие руки, — наступит вдруг этакий декабрьский тусклый скверный вечерочек, и наконец взглянет она, милая, с жалкой и горькой отвагой в ледяное то зеркало и — рискнет, наконец, увидеть…)
Так и мы. Солнце поднималось все позже и позже. Уже глядело оно на землю не пристально, а словно бы вскользь — без прежнего, без живого интереса. Уже и листва, словно бы украдкой, и там и сям желтела. И вяла ботва на пустеющих огородах. И лес вокруг поселка светился насквозь все безуютнее с каждым днем и жалче. Птицы заметно примолкли… А мы все пытались уверить себя, что это — еще лето.
Конечно, говорили мы себе, не пылкое, не бодро текущее лето июня или даже июля, но все же — лето. Пусть уже вялое, августовское, пресыщенное, грузно замедляющее свой ход, но все же — лето.
И только когда народ стал торопливо разъезжаться, уже нельзя стало не видеть: лето кончилось.
И чем безлюднее, тем осеннее становилось в поселке.
Люди уезжали, покидали дома, но едкий озноб расставаний — этот спутник всякой разлуки, — казалось, не исчезал никуда. Как горьковатый туман, он оставался витать возле сразу же почернелых, плохо заколоченных дач, ступени которых уже через день-два нежило заносило всяким захолустным осенним мусором.
Словно бы грубая тень — сиротства, заброшенности, забвения — ложилась на лица домов. Но они долго еще, эти покинутые дома, с недоумением и острой, никак не заживающей тоской продолжали смотреть в пустеющие сады свои, где рассеянно покачивались на ветру забытые детские качельки, или — торчала, покосившись, лопата в наполовину вскопанной и брошенной грядке, или — осыпался, жалко хирея, букетик болезненных блекло-лиловых астр в какой-нибудь мутнеющей бутылке из-под молока на колченогом каком-нибудь столике под голым кустом сирени…
Осень показалась нам поначалу очень печальной. Но это была какая-то очень хорошая печаль.
Псы все чаще возникали на нашем крыльце.
Стремительно и жадно вылакав миски, не устремлялись, как раньше, в бега, а уже подремывали на ступеньках подолгу.
Школярской беспечности в них, даже в Джеке, поубавилось. Каникулы кончились, это и они понимали.
Оставались, конечно, кое-какие еще с лета недоделанные дела и, маленько повалявшись на крыльце, они снова убегали. Но уже без прежней, подплясывающей прыти убегали, без взбудораженной уверенности, что за первым же поворотом их непременно ждет что-то восхитительное: изумительно щедрые какие-нибудь люди, или сучонка какая-нибудь, необыкновенно готовая к любви, или что-нибудь еще, не менее по-собачьи прекрасное… Убегали теперь тяжеловатой, чуть ли не степенной рысцой умудренных, даже несколько утомленных светской жизнью псов.