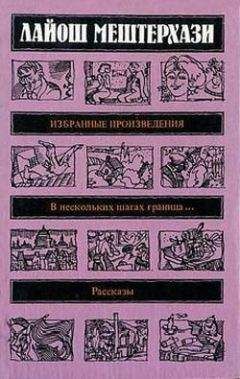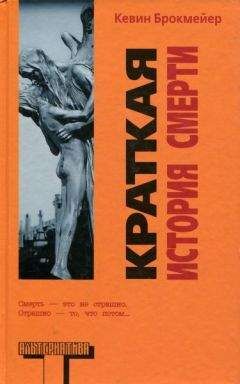Александр Фурман - Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть III. Вниз по кроличьей норе
До конца лагеря оставалось уже меньше недели. Последним из больших «дел» стала военная игра, в которой Фурман взял на себя роль главнокомандующего. Продумывая костюм фельдмаршала, он решил еще раз выступить в своих алых трусах, так удачно использованных им в образе королевского тигра. Но ночью ему впервые за все это время приснились какие-то чрезвычайно запутанные и захватывающие приключения, после которых пришлось переодеваться в темноте. Чтобы не рыться в рюкзаке и не шуметь, он натянул приготовленные на утро красные трусы. Увы, он недооценил запасы накопившейся энергии, и фантастически бурная жизнь продолжилась с новыми поразительными существами… Результатом торопливой и немного грустной утренней попытки застирать пятно стало образование на благородном атласе вытертой белесой проплешины.
С игровой точки зрения было бы совершенно неправильно, если бы облачение фельдмаршала ничем не отличалось от той будничной рвани, в которой все привычно щеголяли. Надо было срочно искать замену.
По предложению Фурмана и в порядке эксперимента Большой совет подстроил все так, что на общем сборе Фурмана единогласно выбрали дежурным командиром лагеря на этот день, поэтому обязательным элементом его костюма была буденновка. Если отвлечься от «красноармейских» ассоциаций, то по форме этот головной убор, придуманный художником Васнецовым, представлял собой стилизованный шлем древнерусского воина. Подобрать что-то в том же стиле в ограниченных лагерных условиях было едва ли возможно, но мелькнувший перед Фурманом образ другого воина – древнегреческого, в коротком хитоне – навел его на новое смелое решение. Правда, пришлось уламывать Нателлу, чтобы она на время уступила ему свою единственную ценную вещь – коричневую замшевую мини-юбку с золотистыми кнопками. Однако эффект от абсурдного сочетания буденновки и мини-юбки превзошел все ожидания, и после успешной примерки Фурману – уже по доброй воле – выдали чью-то тоненькую блузку с серебристыми полосками. Впечатляющий образ довершили старенькие футбольные гетры поносного цвета, которые Фурман по какому-то наитию прихватил из дому. Теперь фельдмаршала ни с кем нельзя было спутать.
Стратегический план сражения двух армий Фурман составил как всегда прекрасно: правая колонна марширует туда, левая колонна марширует туда, во столько-то часов они встречаются там-то, и происходит битва… Но всё пошло наперекосяк из-за самоуправства командира «левой колонны» Минаева – вроде бы близкого человека, получившего четкие и ясные инструкции и, по дружбе, совершенно секретную карту, на которой были отмечены некоторые из запланированных передвижений противника. Выведя свой отряд к нужному перекрестку лесных дорог, он вдруг решил всех перехитрить и приказал свернуть не в ту сторону, в которую ему было предписано. После этого он почти на три часа просто потерялся в лесу. В отсутствие главных сил противника вражеская армия легко раздавила всех, кого встретила на своем пути, и, поскольку делать ей было уже нечего, начала разлагаться. Игра была сорвана. Наконец всем – и живым, и «убитым» – надоело ждать пропавших, и они собрались уходить в лагерь. Появление Минаева, отряд которого, как выяснилось чуть позднее, во время своих бессмысленных блужданий случайно наткнулся на слабо защищенный тайный штаб противника и захватил его знамя, вызвало сначала смех, а потом усталое раздражение. Основные силы обеих армий полностью сохранились, но при этом оба знамени были захвачены врагом, что по правилам означало поражение. Бред. Все уже достаточно набегались по лесу, и сражаться «стенка на стенку» почти никому не хотелось. Значит, ничья? Ура! И только Фурман ужасно злился на Борьку и вообще на всех людей, которые своей тупой самодеятельностью вечно портили его замечательные игровые планы…
На самом деле Фурман вот уже который день был абсолютно счастлив. Впервые в жизни он был полностью востребован окружающими: вся его живость, все его случайно подхваченные знания, всё, что он успевал придумать, почувствовать и сказать, включая рискованные шуточки, которые сыпались из него на каждом шагу, – всё это тут же летело в общий котел и превращалось в праздник общения. Он совершенно забыл о доме, о своем одиночестве и пустоте, ощущая себя текучим электрическим сгустком, радостно вспыхивающим в момент контакта. И этот контакт происходил почти непрерывно, а в прежнее свое отдельное тело он теперь попадал лишь на какие-то короткие мгновения: забираясь под одеяло и сладко ища удобную позу перед тем как провалиться в сон; или встраиваясь в песенный круг и каждый раз по-новому ощущая, как руки легко укладываются на плечи и талии девушек, а их руки приветливо и благодарно оплетают его самого; или засиживаясь под скрип сосен в полутемной будке туалета, куда, впрочем, всегда вырастала нетерпеливая очередь…
5В последний день состоялся волнующий, стыдный, смехотворно-нелепый и необыкновенно занудный многочасовой «Откровенный разговор», на котором все по очереди высказывали свое мнение о каждом и о том, что он дал лагерю. (Заговаривая о Фурмане, почти все начинали улыбаться, а комиссар Эля с какой-то неожиданной материнской интонацией рассказала, что она сразу отметила в толпе приехавших москвичей «смешливого мальчика с такими живыми и внимательными карими глазенками» и почему-то решила, что взаимопонимание возможно, а значит, все должно сложиться хорошо, – и дальнейший ход событий показал, что это первое впечатление было правильным.)
Праздничный ужин, устроенный из разнообразных остатков продуктовых запасов, немного развеял общее напряжение, и с набитыми животами все отправились на озеро жечь прощальный костер.
К вечеру жара резко спала. Порывистый ветер гнал на берег короткие насупленные волны, и пустынный пляж выглядел довольно неуютно. Но зато на горизонте над некрасиво бугрящимся морем развертывалась совершенно фантастическая закатная битва. По одну сторону от увядающего на глазах солнца упрямо встали гордое золото, придворная пышность и усталая голубизна уходящего дня, а по другую зависла чудовищная фиолетово-черная туча с беззвучно полыхающими зелеными зарницами, за которой умело пряталась подступающая ночь. Из-за контрастного сочетания казалось, что жутковатый желтый предвечерний свет мигает, как лампочка.
Пока все, тревожно посматривая на небо, суетились вокруг болезненно чадящего костерка, Фурман залез на одинокую каменную глыбу у кромки воды и в каком-то немом цветомузыкальном упоении бросил свой вызов демонически разгулявшимся стихиям (в одной Бориной книге он видел похожую черно-белую картинку: великий английский поэт-романтик Байрон на вершине скалы над бурным морем…). Эффектное театральное освещение и возвышенная фурмановская поза – руки сложены на груди, взгляд устремлен в бесконечный простор, волосы треплет ветер, – произвели соответствующее воздействие на одну из петрозаводских девушек. Она деликатно подобралась к Байрону сзади, мягко тронула его за рукав и спросила, не плохо ли ему. Испуганно очнувшись и чуть не свалившись с камня, Фурман объяснил, что просто хотел немножко побыть один. «У тебя правда все в порядке?..» – «Если ты подумала, что я собираюсь утопиться, то для этого здесь слишком мелко», – пошутил он в своей обычной манере. Успокоенная девушка удалилась, а Фурман остался торчать на дурацком камне, стыдливо глумясь над пошлостью ситуации – и на всякий случай периодически оглядываясь.
Тем временем солнце закатилось, и величественная картина как-то очень быстро размазалась по небу, утратив драматизм и растеряв все свои краски. Даже ту гигантскую черную тучу куда-то унесло. Победила ночь.
В темноте костер все же удалось разжечь, и он получился таким мощным и «долгоиграющим», что после завершения общего веселья – под конец уже совершенно безумного – тринадцать человек решили остаться на берегу и вместе встретить восход. Несколько добровольцев, взяв фонарики, сбегали в лагерь за теплыми вещами и одеялами для всех, и костровое братство с тихими песнями досидело вокруг огня до четырех часов утра, когда тьма немного посерела. Кто-то, сломавшись, отправился спать, а самые стойкие разбились на парочки и тесные кучки, чтобы подремать часок-другой до рассвета.
Фурман прилег, опираясь на правый локоть, а Надя прижалась спиной к его груди и доверчиво положила голову ему на плечо. Отсветы пламени золотили ее смуглые щеки и странно играли тенями, а стеснительно сияющие карие глаза оказались совсем близко. Улыбаясь, Фурман с Надей молча смотрели то на огонь, то друг на друга. Некоторое время Фурман оберегал Надю, борясь со своим бессмысленным нехорошим возбуждением. Но печальная истеричность ситуации «последнего дня», подспудный страх перед неизвестным будущим, жалость к себе, цепляющиеся за спину ледяные когти ночи и исходящее от Нади чудесное живое тепло ослабили его благородную волю. Его левая кисть, до этого спокойно и бережно лежавшая на Надином плече, поползла вверх, изогнулась, ласково потерлась о бархатистую щечку, потрогала твердое ушко, потом скользнула к шее, немного погуляла там и неторопливо направилась ниже, в широко раскрытый ворот… «Нет, – твердо шепнула Надя. – Так нельзя». – «А почему нельзя?» – с глуповатой детской интонацией переспросил Фурман. Нахмурившись, она застегнула две верхних пуговички из трех, потом примирительно захватила его непослушную руку в плен, по-хозяйски крепко прижала к себе в безопасном месте и устало закрыла глаза.