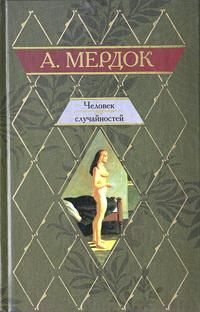Айрис Мердок - Школа добродетели
— А как насчет Иисуса?
— Что насчет Иисуса?
— Ты сказал, что тебе не нужен учитель. Но разве мимо Иисуса можно пройти?
Стюарт нахмурился.
— Он не учитель. Он, конечно же, присутствует. Но он не Бог.
— Ну хорошо. Я тебя терзаю? Или тебе нравится наш разговор?
— Вы все ставите с ног на голову. Я хочу уцепиться за этот мир напрямую, как… как художник…
— Как паук?
— Как художник. Я не воображаю себя каким-то там мудрецом, я не верю в мудрецов. И никакой программы действий нет, кроме одной: человек должен зарабатывать свой хлеб насущный, а мне очень хочется помогать людям. Это состояние души.
— А некоторые называют его затянувшимся детством. О да, благодатное ощущение взросления — счастливое чувство, свойственное некоторым юнцам. Сознательная, великолепная невинность. Хочется сохранить эту невинность навсегда, сберечь это видение благодати, ощущение всесилия и власти, не дать погаснуть этому свету… Да, это может показаться легким делом. Но, бог мой, тебя неправильно поймут!
— Меня уже неправильно поняли!
— Да, но пока это не приносит вреда. Потом тебя возненавидят. Может, уже ненавидят. Тебя будут называть застенчивым импотентом, закомплексованным, отсталым в развитии, инфантильным… бог знает кем. Но неужели ты и в самом деле думаешь, что сумеешь прожить одной невинностью?
— Нет… Есть и кое-что еще.
— Например?
Стюарт помедлил.
— Ну скажи мне.
— «А ну-ка, канонир, забей заряд потуже, прицелься в тот корабль. Испании рабом не стану я, я — Божий раб»[36].
— Что ты несешь, Стюарт?
Стюарт произнес тихим голосом, словно открывал тайну:
— Мужество, всего лишь мужество. Готовность умереть. Звучит ужасно глупо, но эти поэтические строки в известном роде передают мою мысль.
— Любимое стихотворение всех юнцов. По крайней мере, так было когда-то. Твой отец наверняка его любил, и уж вне всяких сомнений — твой дедушка! Прости меня, ради бога!
— Я слишком много говорю.
— Ты говоришь прекрасно. Пожалуйста, продолжай. Поскольку мы перечисляем все самое важное, что ты скажешь о любви?
— О чем?
— О любви.
— Ах, о любви.
— Не хочу говорить вещи, которые ты называешь абстракциями или литературщиной и сентиментальщиной, но разве любовь не лежит в основе всего, что тебя заботит, твоего душевного состояния, твоего сладостного нектара?
— Я в этом не уверен, — ответил Стюарт. — Я думаю, любовь должна сама заботиться о себе. То есть она должна как бы самоуничтожиться.
— Самоуничтожиться?
— Она должна прекратить быть тем, что она есть. Поэтому она не может быть самоцелью…
— Я вижу, эта тема тебя смущает.
— Нет, просто я не могу о ней думать. Я, так сказать, хочу нырнуть в этот пруд там, где поглубже.
— Влюбиться?
— Нет, не влюбиться. Это как раз мелко.
— Но чтобы нырять поглубже, разве не нужно сначала научиться входить там, где мелко?
— Вовсе не обязательно. Но может быть, я мелю чушь. Я хочу сказать, что мне не нужны обычные отношения — близкая дружба или связи, обычно называемые любовью. Может, мне само слово не нравится, как и слово «Бог». Оно стало таким…
— Затертым?
— Вульгарным. Опошлилось.
— Если любовь не может быть самоцелью, то ты не сможешь понять, где надо «нырять». Это опасно, Стюарт. Мне нравится твоя мысль относительно Божьего раба — да-да, я знаю, ты не его имеешь в виду, — но это глубокое место, это океан. Он вздымается и порождает сам себя, он плывет и бурлит в себе и в себя, взаимопроникающий, свет внутри света и свет над светом, разбухание внутрь, затопление себя самого. Каждая часть вливается во все остальные части, пока он не закипит и не выйдет из берегов.
— И что это такое, секс? Бессознательное?
— Так описал Бога один христианский мистик.
— Он, наверное, был еретик.
— Да. Все лучшие — еретики. Есть княжества и державы, падшие ангелы, боги-животные, распоясавшиеся духи, бродящие в пустоте, и все это нужно принимать в расчет. Апостол Павел это знал. Он был первым еретиком.
— Томас, пожалуйста, прекратите шутить. Я против падших ангелов, я против драм и тайн, против поисков учителей, отцов и…
— Отцов?
— Я хочу сказать, что у меня совершенно заурядный порядочный отец, и я не считаю это каким-то особым символом.
— Если уж мы заговорили об отцах, что ты скажешь о матерях? Как насчет твоей матери?
Стюарт слегка покраснел. Вид у него стал чуть не раздраженный.
— Вы хотите объяснить меня через мою мать?
— Ничего такого я не собираюсь делать. Я лишь хочу знать, что ты скажешь о ней.
— Не понимаю, почему я должен что-то говорить. Я не ваш пациент. К тому же я не знал моей матери.
— Ты думаешь о ней? Она тебе снится?
— Иногда. Но это совершенно не по вашей части, и мне бы не хотелось, чтобы вы касались этой темы.
— Хорошо, не буду.
Наступило молчание. Томас подумал, что Стюарт сейчас встанет и уйдет. «Смогу ли я его остановить? Хочу ли?» Он опустил взгляд, поправил на столе ручки и пресс-папье, и на его лице появилась кошачья маска кроткой и отстраненной погруженности в себя. Стюарт посмотрел на Томаса и улыбнулся едва заметной улыбкой. Он поднялся с места, но снова сел и сказал:
— С моей стороны было бы неблагодарностью после этого разговора, когда вы вызывали меня на откровенность, не задать вам вопрос: вы хотите сказать мне что-то особенное?
— То есть посоветовать? Мне казалось, я тебе уже надавал советов…
— Вы, как сами признались, меня провоцировали, потому что хотели узнать, что я скажу! Давайте же, Томас! Вы задумались.
— Конечно, я о многом думаю, но я не вижу смысла на этом этапе выкладывать свои мысли. Может, позднее. Я еще сомневаюсь. Ты слишком поглощен самим собой.
— Вы хотите сказать, что я тщеславен?
— Нет, ты убедителен, красноречив, полон жизни. У тебя, похоже, две цели. Одна — быть невинным и самодостаточным, другая — помогать людям. И я думаю, не вступят ли эти цели в конфликт?
— Может быть.
Стюарт встал и вернулся на прежнее место у окна, потом посмотрел на часы.
— И еще: в тебе есть больше, что ты осознаешь. Ты не хозяин себе. Скажем так: твой враг сильнее и изобретательнее, чем ты себе представляешь.
— Опять ваша мифология, как вы любите такие картинки! Вы считаете, что я должен отправиться в ад и вернуться. Вы хотите, чтобы я пал и получил урок через грех и страдание!
Томас рассмеялся.
— Ты хочешь быть старшим братом блудного сына — тем типом, который никуда не уходил!
— Именно… Только он рассердился, когда его брат получил прощение.
— А ты сердиться не будешь.
«Пора это прекращать, — подумал Томас. — Мы устали и оба неплохо постарались, если учесть, как далеко мы могли зайти. А тут еще опасная тема. Лучше пока оставить все как есть. Но начало у нас сложилось».
Он поднялся на ноги.
— Мне пора идти, — сказал Стюарт.
Томас решил не спрашивать, куда он собрался, что будет делать, как намерен провести вечер. Его уже одолевало любопытство, касающееся любых дел юноши и образа его жизни.
— Стюарт, — произнес Томас, — спасибо, что пришел. Мне было приятно говорить с тобой. Надеюсь, ты придешь еще, когда сочтешь нужным, и мы продолжим наш разговор.
— Нет, не думаю, что мы когда-нибудь еще будем говорить вот так. Если болтать, можно сглазить. Спасибо, вы помогли мне прояснить кое-какие вещи. Передайте, пожалуйста, Мередиту, что я жду его в субботу около десяти в обычном месте.
Томас открыл дверь, и Стюарт направился к ней, но снова закрыл ее и повернулся к Томасу.
— Я знаю, вы спрашивали меня о Христе, а я не ответил должным образом.
— Разве он не один из твоих знаков или убежищ? Один из тех вечных объектов, которые, по твоим словам, находятся повсюду?
— Да… Но еще я… я не могу принять идею воскресения — она уничтожает все, что было до этого.
— Кажется, я понимаю, — проговорил Томас.
— Мне приходится думать о нем на особый манер. Не о воскресшем, а о потерянном, разочарованном… Кто знает, о чем он думал. Он поневоле стал символом чистого злосчастья, окончательной утраты, невинных страданий, бесполезных страданий. Всех этих глубоких, ужасных и непоправимых вещей, какие случаются с людьми.
— Да
— Есть еще одна вещь, о которой я думаю в этой связи, особенная вещь. Может, это звучит странно или кажется притянутым за уши…
Лицо Стюарта неожиданно вспыхнуло.
— Что? Продолжай.
— Мне сказал об этом один парень в колледже. Он посетил Освенцим, концентрационный лагерь, вы знаете, там сейчас что-то вроде музея. И он сказал, что самое ужасное, что он там видел, — это девичьи косы.
— Косы?
— Нацисты в этих лагерях, по крайней мере в некоторых, все утилизировали, как на фабрике…