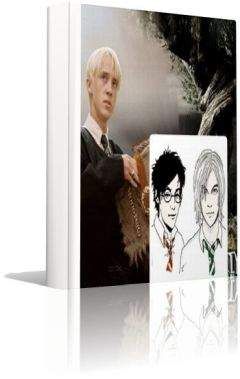Олег Рой - Амальгама счастья
И тут же, приподнявшись на локте среди пахучего, пряного, чуть покалывающего кожу сена, на котором они лежали так беззаботно и привольно, она с каким-то болезненным, ревнивым любопытством спросила:
– А ты, Марио? Ты видишь меня? – и со страхом ожидала ответа, боясь признаться даже себе самой, насколько важен для нее этот ответ.
Он улыбнулся и притянул ее к себе – еще ближе, еще крепче.
– Я всегда тебя видел. Еще тогда, в Женеве, когда ты смотрела почти что сквозь меня, разглядывая одни только зарубежные чудеса на моем фоне – кем я был для тебя? случайным гидом, не правда ли? – еще тогда я видел тебя, ясно и отчетливо. И любовался тобой, и сходил с ума от любви…
Дашино сердце забилось быстрей, но тут же она заспорила с ним с искусственной строгостью:
– Это неправда. Мы не были влюблены друг в друга.
– Это правда. Мы просто не говорили об этом вслух. Мы еще не знали, как это называется… Я называл любовью совсем другие вещи, а ты… ты и вовсе не употребляла этого слова.
Девушка посмотрела ему прямо в глаза – синие, блестящие, упорные – и с облегчением увидела в них действительно правду. Ту правду, о которой он сказал, и еще то, о чем он пока умалчивал, и даже многое другое, о чем и не помышлял до сих пор этот мужчина, что было скрыто от него и что она, Даша, чувствовала глубоким, вечным инстинктом женщины, когда-то давным-давно отдавшей другому человеку свое сердце. Его лицо было так близко, склоненное над ней с глубокой, чуть собственнической нежностью, его рука так твердо и так легко удерживала ее почти на весу, изогнувшуюся дугой в его объятиях, что она вздохнула светло и радостно, принимая все сказанное им и доверяя ему, как никому раньше. А потом, уже не желая спорить, проговорила из чистого кокетства, в наивной жажде быть поскорее разуверенной им:
– То лето закончилось так быстро. И ты никогда больше не напоминал о себе – ни письмом, ни открыткой…
– Разве ты забыла и это? – Его голос был медлительно-спокойным и чуть удивленным. – Письма были – наверное, с дюжину… Ты не ответила ни на одно, и я не стал настаивать. Я писал на адрес Веры Николаевны, но и она не упомянула о тебе больше ни словом. Ни в одном из своих посланий.
Даша онемела, остолбенела, замерла. Неужели бабушка?.. Ох, и кремень же была старуха! Сказала – он тебе не подходит, и ни разу не проговорилась об этих письмах… А Марио тем временем продолжал, задумчиво вертя у губ, от которых девушка не могла оторвать глаз, колючую соломинку:
– Собственно, я ведь и не надеялся ни на что, и сам не был уверен в своих чувствах – так, летнее умопомрачение, аромат новизны и невинности, так свойственный тебе в тот год, феерия вспыхнувшей и подавленной чувственности… Это уже потом, вспоминая и переживая те дни в памяти заново, я что-то понял, и оценил, и почувствовал. А тогда…
Он говорил еще что-то, но голос его вдруг слился в Дашиных ушах с гулом пчел над медвяным покосом, со свежими и острыми запахами трав, с пронзительно чистым вкусом воздуха, который она пила большими глотками. «Сельская идиллия, да и только», – усмехнулась было она про себя и тут же мысленно одернула себя. Эта ирония была ненужной, и ей совсем не хотелось теперь ни иронизировать, ни размышлять о старых историях, давно ушедших в небытие, и о тех людях, которыми они сами были когда-то, двенадцать лет назад. Двенадцать лет – целая вечность! А теперь вечность – другая, новая – была у них впереди, и только новые, еще не исписанные страницы их жизни имели значение.
– Не надо об этом. – Даша весело, непринужденно забрала у него соломинку, сунула ее в рот и легко, пружинисто вскочила на ноги. – Ничего не надо, ничего не было. Все начинается снова: ты и я. Ты слышишь? – И крикнула громко, раскинув руки, словно обнимая широкое небо над головой и вызывая к жизни певучее эхо: – ТЫ И Я!
Эхо послушно откликнулось ей, и Марио, смеясь, подхватил ее фразу на лету – ТЫ И Я! – и, перебрасываясь звуками, как мячиком, они побежали наперегонки по широкому желтому полю, между стогов, причудливо разбросанных тут и там, приминая ногами васильки и ромашки, то и дело касаясь друг друга едва приметными движениями пальцев и обгоняя ветер, бьющийся у них в ушах. Снова было лето, и воздух плавился от жары, и во всем огромном мире были лишь они одни – две пылинки в столпе солнечного света…
Наконец, запыхавшись, Даша остановилась и изумленно повела вокруг глазами, в которых еще продолжали плясать солнечные зайчики. Не было вокруг поля, стогов сена, примятых цветов под ногами – под ними лежали теперь широкие мраморные ступени, уходящие вверх, к знакомой террасе, к высоким колоннам, рядом с которыми бились в окнах кружевные занавески.
– Мы снова здесь – почему, Марио? Почему вечно этот дом, и высокие ступени, и белая терраса – у нас на пути?..
– Где ж нам еще быть? – тихо ответил ей мужчина, и беспечное веселье ушло из его взгляда: он стал сосредоточенным и серьезным, словно это не он только что мчался за Дашей по огромному полю. – Все всегда возвращаются к Дому – разве ты этого не знала?
– Но это не наш дом, – почти робко возразила девушка, ступая следом за ним и поднимаясь по ступеням медленно, нехотя. Что-то противилось в ней этому торжественному подъему, и, проницательно почувствовав это, Марио сказал просто и ласково:
– Тебе не обязательно заходить туда, внутрь. Ты права: этот Дом пока еще не твой, и ты отвергаешь его, потому что он отвергает тебя. Не будем торопиться. Когда-нибудь…
Он не договорил, будто спохватившись, что произнес что-то лишнее, и смутная тень набежала на его лицо. Они молча дошли до последней ступени (Даша глянула вниз, и у нее неожиданно захватило дух – так высока показалась терраса, на которой они стояли теперь, словно паря над миром) и присели за круглым столиком, отдыхая в прохладе вьющегося по стенам плюща. Перед ними стояла большая тарелка, полная вишен; Марио взял одну и поднес к Дашиным губам, и она, опять не отрывая от него взгляда, надкусила сочную ягоду белыми крепкими зубами. Сок брызнул мириадами ярких капелек, Даша зажмурила глаза, вновь ощущая под ресницами жар солнца, и пурпурное марево заволокло все вокруг, сделав ее мир цветным и звонким…
– Как тогда… – услышала она голос Марио, чуть хриплый от скрытого, потаенного желания, и вздрогнула, ощутив ответное чувство – слишком прекрасное, чтобы быть истиной. – Как в то лето. Только на тебе было голубое платье, и на губах – холодное мороженое… Ты вся была прохладной, акварельной, почти морозной. А сейчас – вишни, жар солнца и смуглый румянец. И улыбка – призывная, теплая… Ты никогда не улыбалась так в Женеве.