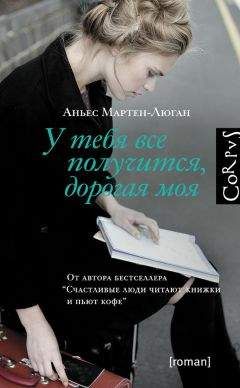Однажды я станцую для тебя - Мартен-Люган Аньес
Тем не менее я вошла неслышным шагом, мне было неловко, что я вторглась в его вотчину из любопытства. Состояние постели меня не удивило. Она была такой, будто он никогда не забирался под одеяло: слегка смятые простыни подсказывали, что он просто ложился поверх одеяла и ждал, пока придет сон, а тот не торопился. Вещи громоздились в углу рядом с дорожными сумками. На столе я заметила школьную тетрадь и рядом с ней ручку, заставила себя отвернуться от них и пошла в ванную, в которой витал древесный аромат геля для душа. На умывальнике лежала зубная щетка и одноразовый станок для бритья. Как и в комнате, здесь тоже возникало ощущение, что хозяин вот-вот упакует вещи. Элиас был настороже, проездом, готов с минуты на минуту двинуться в путь – или сбежать, – хотя и предполагалось, что он останется здесь на неопределенное время. С его появлением комната, которая до сих пор была такой теплой и уютной, вдруг стала голой, тоскливой. Он делал все, чтобы от него и его пребывания здесь не осталось ни следа. Элиас не хотел шуметь, беспокоить, прятался в тень. Не стану врать, я умирала от любопытства, тетрадь на столе притягивала как магнит. Желание узнать, что скрывает этот молчаливый и явно страдающий мужчина, превратилось в неодолимую потребность. Перед тем как выйти из комнаты, я вернулась к письменному столу. Села на стул и погладила обложку тетради для черновиков, вроде той, что была у нас в начальной школе. Странный и трогательный знак детства посреди моря отчаяния взволновал меня. Я стыдилась своего желания открыть тетрадь. В конце концов, почему я должна там что-то найти?! Только загляну, чтобы больше не сгорать от любопытства. Ни он, ни вообще никто об этом не узнает. Вопрос только моих отношений с собственной совестью. Я вдруг заволновалась и высунулась в окно, желая удостовериться, что во дворе нет ни одной машины, потом распахнула дверь, чтобы услышать любой шорох. Затем вернулась к столу, сделала глубокий вдох, чтобы справиться с неловкостью, и только после этого открыла первую страницу. Я бы предпочла не узнать его корявый почерк, с которым познакомилась не далее как сегодня утром, – будь это не он, мой порыв, возможно, затормозился бы. Но я его узнала…
Не знаю, что на меня нашло, зачем я купил эту тетрадь. Мальчишкой я никогда не вел дневник. Мне это казалось идиотизмом и девчачьей забавой. И вот теперь в свои сорок два года я пишу все подряд, чтобы заполнить одиночество и сделать вид, будто у меня есть близкий попутчик. Черта с два! Теперь я чувствую себя еще более жалким! Что за кретинизм! К тому же мне даже не хватает смелости пересказать события последних месяцев. Только подумать, в подобных случаях я первым советовал своим пациентам записаться на консультацию к психологу, а сегодня даже не решаюсь признаться, кем я работал до того, как весь этот геморрой свалился на меня.
Только что я сделал еженедельный ритуальный звонок брату, чтобы дать знать, что жив. Достал он со своей навязчивой идеей любой ценой изображать главу семьи и вернуть меня к нормальной жизни, как он это называет. А между прочим, старший брат – как раз я. Но он считает и всегда считал старшим себя. Он никогда не принимал мой выбор, теперь он шишка в хирургии, и меня достало его снисходительное отношение к общей медицине. Мой младший братец не так уж и плох, временами он просто глуповат, но я его очень люблю. Я знаю, он делает все, что может, чтобы помочь мне. Но когда же он поймет, что я не хочу его помощи? Я растерял свою жизнь. Ту, которой я для себя желал. Ничего не осталось. И нет мне прощения. Я это усвоил. Пусть же и он свыкнется с этой мыслью, черт его подери!
Я проглатывала страницу за страницей, то, что я читала, все больше захватывало меня. Он в дороге уже несколько месяцев. Мотается по всей Франции, понемногу подрабатывает на заводах, в фермерских хозяйствах, где ему чаще всего платят наличными, вчерную. Старается останавливаться на ночлег и покупать еду с минимальными затратами. Иногда спит в машине. В общем, от своей профессии он отказался. Стучится в двери, предлагает поработать, его нанимают или не нанимают. А максимум через десять дней он отправляется дальше. Он рассказывал об одинокой жизни день за днем, о своем молчании и работе, главная цель которой, судя по всему, – постараться окончательно вымотаться, загнать себя до изнеможения, отдыхая по нескольку часов в сутки, чтобы организм выдержал такое существование. Он с симпатией, уважением и глубоким интересом описывал тех, с кем работал, однако не завязывал никаких отношений, во всяком случае, в своем дневнике он об этом не упоминал. Как вдруг одна дата, можно сказать знаковая, привлекла мое внимание.
23 декабря. Звонил брату. Поругались. Он не понимает, почему я отказываюсь приехать к нему на праздники. Огреб от него по полной. С его точки зрения, я сошел с ума, одичал и неисправим. Я должен вернуться к работе, открыть новый кабинет, снова заняться медициной. Он так стремится вернуть меня к “нормальной жизни”, что даже предложил замолвить словечко за меня перед коллегами, помочь найти место. Его несчастный непутевый брат потерпел катастрофу. Пусть он оставит меня в покое! Пусть не мешает мне сидеть по уши в дерьме один на один с собственной профессиональной ошибкой! Их открыточное Рождество! Да меня стошнит, если я буду на нем присутствовать. Он, что ли, забыл, что из-за меня целая семья лишена своего лубочного Рождества? Я вот не забыл и никогда не забуду, что облажался, что однажды дал слабину… Блин, сдохнуть от этого хочется!
24 декабря. В качестве рождественского подарка я снял номер в убогом отеле, в промзоне. Я настолько торможу, что даже не запомнил название города, в который заехал. Больше поселиться было негде. Из-за рождественских каникул мне нечем заняться до третьего января. Сегодня шатался по улицам, глазел на людей, делающих последние покупки, выбирающих последние подарки. Потом суета сама собой стихла. Я остался один и, как идиот, останавливался перед окнами, где мерцали огоньки рождественских елок. В прошлом году я работал допоздна, занимался поносами и начинавшейся эпидемией гриппа. А потом я поехал к месье и мадам H., паре старичков, которые были мне очень симпатичны. Они никогда не покидали свою ферму, а их дети жили далеко. Они пригласили меня остаться и провести с ними рождественский вечер, догадавшись, что у меня ничего не запланировано. Как сейчас помню, они мне тогда сказали: “Наш добрый доктор не должен быть один в такой вечер, оставайтесь у нас”. И я с благодарностью принял их тепло и выцветшие гирлянды, с радостью согласился занять место их отсутствующих сыновей. Я доставил удовольствие и им и себе. До сих пор не забыл, с какой головной болью проснулся из-за пойла месье H. наутро. Вспоминают ли они меня сейчас, год спустя? Они тоже отвернулись от меня, как и все.
2 января. Завтра покину эту дыру, где торчу уже целую неделю. Сяду опять в тачку и еще немного удалюсь от мира людей. Я себе противен. Празднуя окончание худшего года своей жизни, я торчал в барах, главным образом вокзальных, куда стекаются все одиночества, чтобы утопить тоску в недорогом алкоголе под звуки паршивой музыки восьмидесятых. И я туда нырнул. Пил до одури, чтобы не вспоминать о новогодних праздниках прошлых лет, проведенных в моей деревне, где, не спрашивая моего согласия, меня сначала считали героем, а потом пригвоздили к позорному столбу. И мне отчаянно захотелось нежности, захотелось прикоснуться к женскому телу, обладать им. В таких местах никто особо не возражает: достаточно встретить остекленевший взгляд, подать сигнал, завязать подобие пьяной беседы, и вскоре будешь трахаться в сортире бара, прижав партнершу к грязной стене. Я действительно достиг дна. Все, на что я могу рассчитывать, – секс без всяких чувств, без души, без реального желания, просто чтобы стало легче или чтобы на несколько минут забыть о жизни, которая больше ничего не стоит. После чего, как выяснилось, пребывать в еще большей растерянности, чем раньше. Мне нечего ждать от других, я не хочу никогда ни к кому привязываться, у меня больше не будет ни друзей, ни любовных увлечений. Одиночество. Я продолжаю свои бессмысленные блуждания, все глубже погружаясь в них, с тех пор как сложил вещи в машину и сбежал, чтобы затеряться, чтобы забыть, кто я такой.