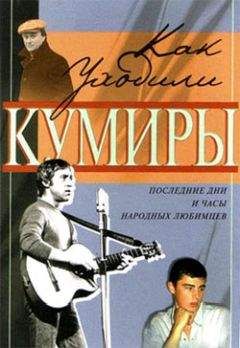Миграции - Макконахи Шарлотта
— Ты за что в тюрьму села?
— За убийство двух человек.
— Охренеть, — рявкает он. — Мать твою за ногу.
— Бэз, успокойся, — обращается к нему Дэш.
— Ага, сейчас! Нужно дать радиограмму в полицию! Если мы повернем сразу…
— Ступай охолони, — приказывает ему Эннис.
Бэзил пытается возразить, но тут…
— Пошел!
Кок с топотом выходит, бормоча под нос ругательства. Эннис снова поворачивается к нам. Его глаза, серые, как рассвет, отыскивают мои.
— Приношу свои извинения, — говорит он.
Я не знаю, что на это ответить.
Мал тихо спрашивает:
— Ты поэтому не хотела сходить на берег?
Я киваю:
— Я нарушила подписку о невыезде. Мне еще пять лет нельзя покидать Ирландию. У меня чужой паспорт. И… — Ладно, выложу всю правду, и пошло оно: — Никакой я не орнитолог. И вообще не ученый.
Изумленные взгляды.
— Прошу прощения? — выдавливает Мал.
— Я нигде не училась. У меня нет ученой степени. Просто много читаю.
Еще одна долгая пауза: они пытаются сообразить, что делать дальше.
— Мать-перемать, Фрэнни, — в конце концов высказывается Лея.
— Давайте не будем об этом говорить Бэзилу, — предлагает Мал.
— А трекеры эти у тебя откуда? — интересуется Дэш.
— От мужа.
— А зачем тебе все это надо, если ты тут ни при чем? — спрашивает Аник.
— Я при чем. Мы все при чем.
А потом:
— Неважно, — произносит Эннис: он спокоен, и что-то в его спокойствии наводит меня на мысль, что он все знал и раньше, но это же глупость. — У нас осталось две птицы с трекерами. Я могу их перехватить. Они приведут нас к рыбе.
Я выдыхаю — глаза пощипывает. Очень хочется его обнять.
— Они далеко на западе, — возражает Лея. — И улетают к югу. А ты тамошних вод совсем не знаешь, шкипер.
— Я их отыщу, — повторяет Эннис, и уверенность его звучит убедительно.
— А смысл, если, когда мы пришвартуемся с полным рефрижератором, нас сразу же заметут? — интересуется Дэш.
— Знаю я одного парня, — говорит Аник. — Он, если надо, сплавит за нас наш улов. Если улов будет, — Господи боже, — выдыхает Малахай, а потом, не выдержав, недоверчиво хихикает.
Все это так нелепо, что впору захихикать: мы вдруг оказались в каком-то криминальном мире. У Леи без остановки трясется голова, а Дэш постоянно трет глаза, будто в попытках проснуться.
— Проголосуем, — решает капитан. — Кто за то, чтобы повернуть обратно и отдать судно?
«И отдать Фрэнни» — этого можно и не добавлять.
Я замираю.
Не поднимается ни одной руки.
— Кто за то, чтобы идти дальше — и будь что будет?
Молчание.
Потом в воздух поднимается одинокая рука — Аника.
— Куда ж теперь денешься, — бормочет он, — уж пойдем до конца.
Одна задругой поднимаются и остальные руки. Я смахиваю слезы со щек, пальцы трясутся от возбуждения.
Вчера вечером со всем этим было покончено. А сегодня мы углубились в чащу еще дальше прежнего.
— Значит, идем на юг, — подводит итог Эннис, — и будем надеяться, что нам хватит горючего, потому что нас объявят в розыск, в порт нам теперь не зайти до самого конца.
— Будем надеяться, что движки не подведут, — добавляет Лея.
— И молиться, что поймаем рыбу, — произносит Дэш.
— И еще за птиц, — говорит Аник.
Я киваю.
И за птиц.
Я выношу свою постель на палубу и сплю там. Не в состоянии я оставаться в этой каморке, несмотря на все возражения Леи. В качестве уступки я привязываю себя за запястье к лееру, чтобы не свалиться за борт в плохую погоду или в приступе лунатизма. Снаружи холодно и прекрасно. Чистое небо усыпано звездами.
Позже с мостика приходит Эннис и садится на деревянный настил рядом с моим спальником. Он, как это ему свойственно, молчит.
Поэтому разговор начинаю я.
— Почему они проголосовали за то, чтобы идти дальше? — спрашиваю я, потому что весь вечер задавала себе этот вопрос. Остальных, в отличие от Энниса, ничто со мной не связывает.
— Ты — одна из нас, — говорит Эннис. — А мы своих не сдаем.
Слышать это больно, и это особая боль — пугающая и светлая одновременно. Я опускаю голову на колени, смотрю вверх, на луну. Нынче почти полнолуние, и она не белая, а золотая.
— Я не хотела его убивать, — бормочу я. А потом: — Неправда. Хотела. Я именно что хотела его убить. Мне кажется, именно поэтому и не стоило всаживать в него нож.
Эннис долго молчит и не двигается. Над нами вращается ночь.
По прошествии целой вечности он произносит:
— Может, и нет. Но я рад, что ты это сделала.
20
ИРЛАНДИЯ, ГОЛУЭЙ. ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
Когда-то мир выглядел совсем иначе, — говорит Найл в микрофон. — Когда-то моря населяли создания настолько удивительные, что нам они показались бы фантастическими. Были существа, которые скакали по равнинам и скользили в высокой траве, существа, которые спрыгивали с веток деревьев — деревьев тоже было в изобилии. Когда-то существовали великолепные крылатые твари, парившие в мире небес, а теперь они уходят. — Он делает паузу, ищет в аудитории мое лицо. — Не уходят, — поправляет он себя. — Их безжалостно и неразборчиво истребляет наше равнодушие. Наши лидеры решили, что экономический рост важнее. Что кризис вымирания — приемлемая цена за их алчность.
Он говорит: порой ему трудно закончить. В горло выплескивается желчь, можно сломать кафедру руками, так отвратительно ему то, кто мы есть — мы все, сколь вредоносен наш биологический вид. Он называет себя лицемером, поскольку вечно говорит и ничего не делает, по его словам, себя он ненавидит так же сильно, как и всех остальных, он такой же соучастник, потребитель, живущий в богатстве и роскоши, которому нужно все больше, больше и больше. Он говорит: его завораживает простота моей жизни, он мне завидует, а мне это кажется занятно, потому что я никогда на себя не смотрела под таким углом. Когда он спрашивает меня, чего мне хочется на самом деле, в самой глубине души, мне в голову только и приходит, что плавать и гулять, так что, видимо, он прав.
Я вижу, что сегодня лекция ему дается с трудом. Я много месяцев не приходила к нему в аудиторию, и мне больно слышать, какое отчаяние звучит в его голосе, какой гнев скрывается за взвешенностью формулировок, откровенными обвинениями и потребностью добиться от нас понимания. В голосе Найла я слышу ярость по поводу тщеты его усилий, и мне хочется хоть как-то облегчить его бремя, сгладить прикосновением пальцев или шепотом губ, но гнев этот больше меня, его столько, что он может захлестнуть весь мир.
После лекции я жду Найла в лаборатории. Заставляю себя посмотреть на чучело чайки, по-прежнему приколотое и распяленное: не знаю, зачем мне это. Может, дело в том, что оно возвращает меня к нашему первому прикосновению, тогдашней близости и страху.
— Мир станет лучше, если в нем можно будет делать чучела людей, чтобы потом изучать, — произносит, входя, Найл.
Мне не сдержать легкой улыбки.
— Вряд ли.
— Показать тебе одну вещь?
Я иду с ним к экрану проектора. Он гасит свет, но ничего не показывает, смотрит на мое лицо, глаза и тихо произносит:
— У тебя такой усталый вид, милая.
В последние дни меньше приступов лунатизма, но больше кошмаров. Они обычно сменяют друг друга. Я немножко боюсь сна, немножко боюсь своего тела и его поступков. Но сейчас меня тревожит другое.
— У тебя вид отчаявшийся, — говорю я. — Все в порядке?
Он нежно целует мне веки. Выдохнув, я прижимаюсь к нему, прекрасно зная, что ничего у него не в порядке.
Мы смотрим видео — крупным планом, на экране. Без звука. Лишь внезапная вспышка белизны, которая ослепляет нас обоих. При следующем взгляде мы видим сотни снежно-белых грудок и алых клювов, взмахи изящных заостренных крыльев.
Будто загипнотизированная, я подхожу ближе к экрану.
— Полярные крачки, — произносит Найл.
А потом он рассказывает мне об их странствии, самом длинном на свете, говорит про их выживание, про их упорство, а завершает словами: