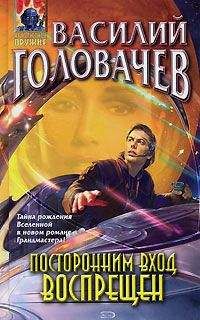Евгений Водолазкин - Похищение Европы
Мои подозрения не были самыми худшими, но как человек, воспитанный западным обществом, я испытывал определенное недоумение. Дело в том, что противопоставление морали и права не считается у нас обычным, а уж тем более почтенным делом. Более того, к таким противопоставлениям прибегает, как правило, публика небезупречная. Сейчас я вообще склонен думать, что противопоставление морали и права по сути своей — мнимое, что в некотором смысле право — это и есть мораль, только систематизированная, вобравшая в себя все случавшиеся ситуации. Не допуская какой-то частной «справедливости», право все равно защищает справедливость. По большому счету защищает.
Предметом особых моих размышлений было понятие «развития права», в те дни официально оправдывавшее нарушение законов. Это понятие основывалось на том, что права личности должны быть поставлены выше прав государства. Мне казалось, что такая точка зрения должна быть близка князю как человеку, считавшему, что история существует исключительно для реализации личности. Когда я спросил его, как он относится к идее развития права, он ответил, что это зависит от того, кто и как его развивает.
— Если вас интересует мое мнение об иерархии прав, — сказал князь, — то выше я, пожалуй, поставлю права личности. Но права государства — это тоже права личности, и потому здесь следует быть очень осторожным. Идея защиты прав личности — меч обоюдоострый, а это очень опасный инструмент. Знаете, почему в международном праве государство до сих пор стоит выше личности? Да потому что попранными правами личности легко оправдать агрессию более сильного государства. Ну, представьте, что где-то полиция избила человека. Права этой личности попраны? Несомненно. Теперь ответьте мне: достаточный ли это повод для войны?
— Вряд ли.
— Согласен. А какой — достаточный? Пятьдесят, тысяча, десять тысяч? Кто это устанавливает? Это не праздный вопрос. Гитлер, например, считал, что обижают судетских немцев. Он был сильнее Чехословакии, и потому у него были средства доказать, что это так. Идея защиты прав личности верна при одном условии: решение о вмешательстве в дела государства принимает все мировое сообщество, а не заинтересованные в агрессии государства.
— Но если мировое сообщество не принимает никаких решений — что делать тогда?
— Проявлять сдержанность, мой друг, проявлять сдержанность. Потому что при несогласованном вмешательстве будет только хуже. Ведь тот, кто был против такого решения, начнет помогать противоположной стороне. Мало-помалу конфликт примет глобальные размеры… Да такое решение и не нужно, если ситуация сомнительна, вот в чем дело-то.
Но в понятии «развитие права» для меня существовало еще одно недоумение, которое я уже не стал обсуждать с князем. Почему право решило развиваться именно сейчас, когда это выгодно атакующей стороне? Рассуждав в неюридических своих категориях, я представлял себе шахматную партию, в которой один из партнеров вдруг стал бы ходить слоном на манер коня и объяснил бы это развитием правил. Но даже если есть какой-то высший смысл в том, чтобы менять правила во время игры, почему было не сделать этого раньше, в защиту гораздо более несчастных курдов? Мне становилось не по себе от мысли, что выборочно применяемое право перестает быть правом, а становится худшим видом произвола.
Война коренным образом изменила наше с Настей отношение к прессе: вначале — в смысле количества уделяемого ей времени, а впоследствии — в смысле доверия ей. Возвращаясь с работы, мы приносили по четыре-пять свежих газет, чего прежде никогда не случалось. Во время нашего пребывания дома Настя (а следовательно, и я) почти неотрывно смотрела новости, переключая телевизор с одного канала на другой. Наконец, постоянным источником информации был для нас наш сосед Кранц, не прекративший своих визитов с Настиным переездом ко мне. Кажется, он совершенно не удивился ее появлению и продолжал держаться так же, как и до него. Заинтересовавшись войной, Кранц уже не ограничивался телевизором, а, подобно нам, приналег на газеты и даже приносил их время от времени для прочтения. Доставлялись газеты неаккуратно сложенными пачками, сразу за несколько дней. Кранц по-прежнему являлся в спортивном костюме, с бутылкой пива в руке. Свободной рукой он прижимал к груди газеты, что, по мнению Насти, окончательно придавало ему вид городского сумасшедшего.
— Я же говорил, что будет война, — сообщал он нам при всяком своем появлении. — Для меня это не составляло тайны. После таких авантюр, — на слове «таких» он закатывал глаза и втягивал носом воздух, — война неизбежна.
Иногда из сваленной на пол пачки газет он доставал одну-другую и зачитывал самые, на его взгляд, интересные фрагменты. Дома эти фрагменты отмечались им таким густым желтым маркером, что последующее чтение оказывалось делом нелегким.
— На прошлой неделе сербы казнили албанских интеллектуалов, — произнес Кранц, разворачивая одну из газет. — «Зюддойче цайтунг» за 30 марта, вот слушайте: «Сербы казнили пятерых албанских вождей, среди них Фехми Агани и 33-летнего журналиста Батона Хаксхиу…».
В глазах Насти мелькнул охотничий блеск.
— Сообщение в высшей степени интересное. — Она стала перебирать купленные нами газеты. — Мне кажется, об албанских интеллектуалах я сегодня уже что-то читала… Вот: В понедельник с помощью немецкого посольства в машине бундесвера в Берлин прибыли шесть известных косовоалбанских интеллектуалов: Фехми Агани, Батон Хаксхиу» и так далее. Это «Франкфуртер рундшау».
— Не может быть, — недовольно проворчал Кранц, — их же накануне расстреляли.
— Их расстреляли в самой незначительной степени. Только в «Зюддойче цайтунг». В остальных газетах они спаслись. — Настя взяла газету на манер веера и несколько раз с удовольствием ею обмахнулась. — Так что за этих интеллектуалов можно быть более или менее спокойным.
Кранц имел довольно обиженный и уж никак не успокоенный вид. Он взял из Настиных рук газету и, отхлебнув пива, медленно водил глазами по строкам[7].
С этого дня между Настей и Кранцем началась информационная война. Если прежде Кранц рассматривал появление Насти как изменение количественное, никак не влиявшее на свободное распространение им информации, то после этого случая он заподозрил в Насте конкурента, а может быть — Настя была русской! — и идеологического противника. В прессе Кранца интересовала не столько информация, сколько энергетика высказываний — поддерживающих или, наоборот, осуждающих. Ему нравилось читать подчеркнутые им фразы с акцентами и паузами, становясь тем самым их соавтором. Иногда он даже как бы задумывался, словно подыскивая нужное слово, и если бы в его руках не было газеты, можно было бы полагать, что перед нами разворачивается акт информационно-аналитической медитации. Во время чтения на лице Кранца появлялось выражение ответственности за каждое озвученное им слово. На самом же деле истинность этих текстов не представляла для него самостоятельной ценности и — то ли выносилась им за скобки, то ли гарантировалась самим фактом их публикации. Настя раздражала его преимущественно двумя качествами: критическим отношением к источникам и равнодушием к эмоциональному накалу читавшихся им строк.