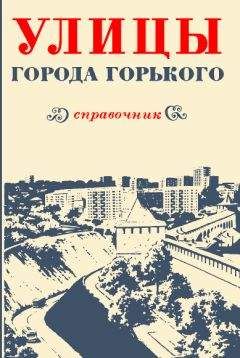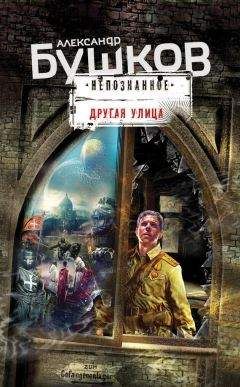Андрей Левкин - Голем, русская версия
А мы все были при двойниках, которые жили где-то в другом месте, нас из той жизни выдавили. У нас другие ценности были, топография жизни и никакой структуры. Мы процентов на восемьдесят двойники, привыкли к неопределенности, не связывали себя с тем, что происходило тут. А теперь ты пытаешься жить привычной жизнью, то есть — жизнью двойника, — но уже здесь. А пространство-то другое. Тебе будет только приятно, если снова начнут прессовать. Не так, что молодость вспомнишь, но ты, двойник, с радостью уйдешь отсюда. Поставишь тут свою старую куклу и вернешься туда, где полная неопределенность, счастье твое.
Я вот на Садово-Триумфальной мужика видел. Обношенный человек-бутерброд, только у него не реклама на груди, а простая картонка, а там фломастером написано: "Внимание! Глухонемой. Голодный. Страдание". Вот вы такие же, двойники: глухонемые как двойники, голодные — не та здесь потому что пища. Вот и страдание, страдания…
Через два дня после этого разговора он ушел к ней вовсе, забрал свою постель, заплатил за весь декабрь — я возражал, но он что ли бартером попросил, чтобы его книги тут еще постояли какое-то время.
Куракин умер
А через день позвонила Мэри и сказала, что только что умер Куракин.
По ее словам — просто умер, то есть внезапно, кажется — днем. На кухне, вставал со стула, упал, и — видимо — уже мертвым. Она от него и звонила. Зашла к нему, у нее уже был ключ от квартиры, и вот. Не плакала, была спокойна и даже не говорила о том, что если бы кто-нибудь бы дома был, да если бы врача сразу… Какие тут врачи, никто из нас не знал — да и он сам, похоже, — что возможен такой вариант. С кем он не возможен…
Я, машинально говоря с Мэри о том, какие дела нужно сделать, думал о последнем разговоре с Големом— ну вот, наговорил он, что все мы двойники, и что же: вот умер человек и ускользнул от его слов и определений. Мысль, наверное, была не вполне доброй.
Я пошел к ней, то есть— к Куракину (хорошо, он завел у себя на кухне листок с телефонами, моим в частности, — а то бы что Мэри делала). Дождался врача, ментов, труповозку. Маша вела себя спокойно. Вышла, потом вернулась. Чуть пахла валерьянкой.
Потом, когда она повела меня еще раз в ту квартиру, уже после похорон, — взять что-нибудь на память, она сказала, что, наверное, съедет отсюда. С улицы, имелось в виду. Я взял себе тот древний значок "Лучшему повару". Конечно, я не спросил ее о том, получилось ли у них что-то с ребенком, — возможно, станет понятно, если она переедет не сразу или встретимся где-нибудь в городе. Конечно, я так ей и не рассказал о том, как мы в детстве считали ее Лолитой, — потому не сказал, что это бы уже совсем означало прощание.
Надо стать серым клоуном
Я понял, что на свете есть источник серого света, который и есть тут главная сила: тот, который, как по карточкам, обеспечивает всех дыханием. Сделаешь врезку в эту трубу, так и уставать не будешь.
Серый такой свет был вокруг, чуть почерканный мелким снегом.
Я ходил по улице, смотрел на дома, думая, что сколько их осталось неучтенных, не описанных. Но этим заниматься уже не хотелось. Может, это было летнее занятие. Башилов, кстати, что ли обиделся за что-то — в гости не заходил, но засунул однажды в почтовый ящик пригласительный на выставку: "София и Молчалины". Тут уж и я обиделся: на то, что он не удосужился подняться: я был дома, потому что обнаружил приглашение, когда спускался. И не пошел. Впрочем, и день перепутал — потому что от обиды неточно запомнил число.
Вокруг был снег, голые стволы, тонкие. Бетонная стена, которую летом и не увидишь. Не улица, а просто место смерти, куда все уходят, — такой сейчас была улица. Все было разрознено в этом предзимье, хотело упаковаться в историю что ли. Это ж как всегда — когда она складывается, то всасывает в себя даже то, что вполне бы могло остаться отдельно.
Я ходил всюду и нигде не находил ее. Может быть, она уже и не жила здесь. Я не хотел становиться террористом, ни интеллектуальным, ни чувственным, никаким. Хотелось бы стать серым клоуном. Бывают же рыжие и белые, вот и серый— чтобы непонятно, что клоун. Как серый кардинал, только веселый.
Случай из жизни
В десятых числах декабря она пришла. Было уже около одиннадцати вечера.
— Можно к тебе? — спросила она.
— А чего нет? — не понял я, мы же сидели и пили чай.
— Нет, к тебе. Жить у тебя.
— Со мной? — переспросил я.
— С тобой, да, — кивнула она.
— А он?
— Он не придет. Ни туда, ни сюда.
— Почему?
— Не важно. Не придет. Уехал.
— Ничего не понимаю. Куда?
— В другое место просто. Мы расстались. Он уехал жить в другое место. Куда-то на юг что ли. Москвы в смысле.
— А кто был… инициатором?
— Оба, наверное. Он уехал, я не возражала.
— Тебе было с ним плохо?
— Хорошо. Оно же и страшно. Но он ласковый. По голове гладил. А страшно потому, что его хорошо — оно как лампочка. Включил — хорошо. Нет — не горит. Пойдем, пожалуйста.
— Это какая-то часть меня была с ним, — сказала она среди ночи, — как если татуировку сделать. А с тобой татуировка же не участвует.
Я не вполне понял, что следовало из этой фразы — она его ждет, нет? Ну просто: татуировки не участвуют.
Мы начали жить вместе. То у меня, то у нее, то порознь — почти как она с ним, в общем. А он пропал — будто понял, что мы сошлись. Мы о нем не говорили, но, кажется, по вечерам прислушивались — не идет ли. Впрочем, они же виделись на работе, так что она могла легко ему все написать, и вовсе она по вечерам не прислушивалась. Тату же не участвуют.
Ночные сплетни
Однажды у меня она рассказала, как у них было.
— Он умный. Но у него, например, какое-то обостренное отношение к сексу. У меня, скажем, это достаточно функция. Я могу переспать с кем-то, могла в юности, совершенно безотносительно человека, после вечеринки. Потом это прошло, что ли возрастная гиперсексуальность была. Да как в том возрасте человека ощущаешь… Вещи на свете сложней, чем сверстники и чем ты сама. Так что уж над этим серьезно раздумывать— то есть над телом, — это уж как-то не по чину, для тела в смысле. Ну захотелось, трахнула кого-то. Обычно, собственно, неудачно. Наверное, потому и неудачно. Но когда подход изменился, тоже ничего удачного не было.
Поговорили мы как-то раз, — она хмыкнула, — насколько оба можем быть разговорчивыми. Говорю, у тебя же опыт большой, что-то у нас не получилось, в самом начале. Чего ж ты поправить не можешь… Свинский заход, но обиделась я тогда отчего-то ужасно. А он говорит, нет, не очень большой. Странно, не может у него быть мало опыта — со мной же он знает что делать, что с того, что в этот раз сорвалось. Говорит, что нет, вовсе нет. Да что ты, говорю, не обольщал что ли никого просто так или баба гладкая дать хочет, почему бы и нет? Говорит, такое на него не действует. Тело, то есть, не действует само по себе. Должна быть другая штука, и у кого она есть — с теми все само получается, а потом — из-за той же физиологии обычно и распадается. Правда, кстати. Со мной же именно так и получилось. Я ему что ли как тело стала не такой.
— О господи, — вздохнул я, — маги, големы.
— Да, големовское какое-то поведение. Все, что физиология, он едва выносит. Ему надо, чтобы что-то другое забивало физиологию. Могу себе представить, как он ощущает все эти — на улице поглядеть — семейные прогулки, это ему каюк. Или семья, которая закупается в каком-нибудь супермаркете — тележка, а в ней полный набор продуктов, необходимых на неделю для функционирования.
— Так ведь ты же ему подходила.
— Да. Но дальше?
— Так бы и жили.
— Нет, ты не понимаешь. Это же состояние не постоянное, ну вот стрелочка туда-сюда ходит — слева физиология, справа — это вот что-то другое, непонятно что. Она же не стоит на одном месте.
— Это он тебя просвещал?
— Нет, сама поняла. Он бы вряд ли. Я с ним совпала на время, словом. Может быть, от того же голода физиологического. Мне что-то похожее свойственно, но только когда этот голод, неврастения. А голод утолился, я стала физиологичнее, все регулярно, истерика в теле не скапливается, мне уже длинные отношения нужны. Но я же не знаю, как мне жить так, чтобы соответствовать его восприятию. Может, в самом деле мистиком надо было сделаться. А я не умею и не хочу. И этому же надо учиться, а я не понимаю как. Я ему говорю — ну научи, а он говорит — тут нельзя учить, потому что тут у всех по-своему, можно только самому себе что-то придумать, а иначе навредить можно. Ну так и навредил бы, чего ж не рискнуть…
— А сам он как?
— Ему и не надо. У него такой заскок, что он там где-то и находится. А я не могу так, я же поняла, что если там с кем-то — на его территории — связан, то это иначе, постоянно. Не в смысле до смерти, а постоянно. Не так, что вышел из комнаты и все. Меня на такое не хватит. То есть вот он думает, что все постоянно, а вышел он из комнаты, и я уже не знаю, вернется ли.