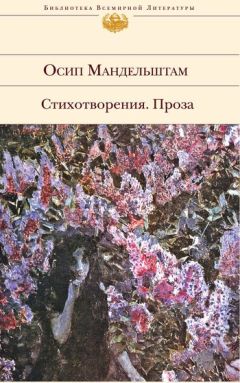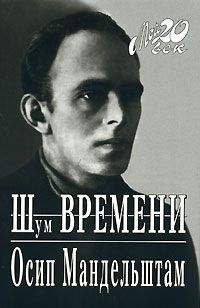Камилл Бурникель - Селинунт, или Покои императора
«Ты пепел, и я сгорю на этом костре…»
Я выхватываю эту фразу в начале любопытного отрывка о Матерях (космических, естественно!) — одного из тех, которым комментаторы обычно уделяют много внимания. Сандра, cendre (пепел)! Быть не может, чтобы такая игра слов родилась случайно! Пепел — именно это имя ты ей дал, и может быть, в первый же раз, когда держал ее в объятиях. Потому что пепел легкий, теплый и мягкий на ощупь, его уносит ветер, кружащий утром голубей вокруг колокольни, и потому что тебе оставался только неуловимый и истерзанный аромат, похожий на запах огня, тлевшего всю ночь на ложе из диких фиалок, а теперь окончательно угасшего под осенней изморосью.
Пускай с этими словами ты обращаешься к Земле, первичной материи (помнишь, у Лотреамона: «Приветствую тебя, о Старый Океан!»?), разве можно не заметить вещего знака за легким изменением звучания? Впрочем, все женские образы, встреченные на протяжении твоего внутреннего путешествия, по сути — одна и та же фигура, вещая и загадочная.
Я вижу ту же перемену в твоем отношении к этой личности, стремление увидеть в ней иные черты, нежели те, какими наделяли ее твой гнев и твоя досада в послеоперационный период возбуждения и бреда. За образом девушки, посмеявшейся над тобой, вставал другой: образ закутанной в покрывало женщины, подносящей к лицу светильник, зажатый в ладонях. Спутал ли ты ее с прозрачной фигурой вестницы, выступающей из темноты, на полотне какого-нибудь художника, мастера света, или с изображением из Виллы Таинств?[75]
Внешний облик менялся, открывая наряду с «хищницей» посредницу, рядом с Цирцеей, усыпившей твои защитные инстинкты, Сивиллу, «но более далекую», как ты говорил, «киммерийку, о какой обычно не помнят художники». Почти на каждой странице описания твоего сказочного зверинца, твоей прогулки по стране сновидений, встречается эта мифологическая терминология, чередование двух ликов, один из которых возбуждает твой гнев, а другой странно символичен. Как в текстах пророчеств, в которых тебе нравится смешивать знаки и символы, Сандра становилась «хозяйкой замка», «проводницей», таинственной «трактирщицей Сидури», той, что говорит герою Гильгамешу:[76] «Куда ты спешишь, Гильгамеш? Ты не найдешь жизни, за которой гонишься. Когда боги создали человечество, они даровали тебе смерть. Жизнь же оставили себе».
Под нагромождением былинных сюжетов постоянно проступает пережитая тобой история. Так, говоря о киммерийцах, «жителях Вечной Ночи», ты внезапно задаешь себе вопрос: «Не из их ли я племени?»
Несомненно, эта причудливая экспедиция вызвана некой тревогой, высвобожденной при необычных обстоятельствах вашей встречи через механизм говорения и видения. Передавая тебе эти записки, Сандра выбила тебя из наезженной колеи. Начав неожиданно видеть глазами другого, ты стал видеть то, чего тебе не было дано увидеть, слышать то, чего тебе не было дано услышать. Можно ли назвать это откровением? Голос, доносившийся к тебе с самого горизонта, был твоим голосом, таким, каким ты всегда его предчувствовал, на который безнадежно уповал. Более того, тебе были дарованы слова: те самые, которые всегда ускользали от тебя. Откровение?.. Гораздо больше: слово!
Да, я могу представить твое замешательство, когда ты увидел все это напечатанным и вспомнил те недели, когда, не утруждая себя сверх меры, ты был орудием медленного словесного богоявления, схватывал картины, а не выдумывал их, словно внезапное изменение освещения вдруг позволило тебе разглядеть пейзаж за запотевшим стеклом.
Хотя ты был разгневан на ту, которая сыграла с тобой такую шутку, ты не мог отрицать: благодаря ей ты познал радость, чистую, без примесей, — радость видеть, как на твоих глазах рождается из пены новая земля, под солнцем, которого не затмевал рой слов, в тишине, не оглушенной его гудением. Ни одно твое открытие не было более чудесным, более освобождающим. Возможно, следовало вспомнить детство — таким, каким оно снится поэтам — чтобы вновь обрести то чувство непосредственного, почти дикого слияния с реальностью, выраженной одним только желанием погрузиться в нее с головой и затеряться в ней.
Раз уж тебе подвернулся такой предлог, тебе не приходилось краснеть за свою дерзость. Твоя подпись не требовалась. Не становился ты и участником системы, в которой произведение искусства превращается в товар для общества потребления. Ты избегал этой симонии, этого ажиотажа, этого торгашества.
Таково могло быть истинное объяснение подобных перемен, не только в «Описании земной империи» (то есть твоем), но и в «Незапамятном» — второй части цикла подведения итогов, которая стала его завершением, осуществлением, когда ты понял, что твоя кампания ничего не дала, что никто не поддался и не принял тебя всерьез, и если ты хочешь разрушить чары, тебе нужно снова взяться за перо, дописать конец и опубликовать его под собственным именем — ты думал, что это единственный способ добиться торжества правды.
Будучи привилегированным читателем, я, наверное, один трактую эти две книги таким образом. Хотя, возможно, совсем не обязательно знать подобные тонкости, чтобы произведение получило смысл, — не зависящий от Атарассо, который его не писал, и от тебя, который позволил его у себя отнять. То, что оно подвержено стольким различным трактовкам, вызывает столько противоречивых толкований, еще яснее указывает на его принадлежность. Если мне когда-нибудь удастся доказать твои утверждения, я лишь отберу эту книгу у одного из вас, не более того. Небольшая перемена по сравнению с настоящим ее наполнением. Загадка ее рождения, которого в обоих случаях ничто не предвещало, останется загадкой. Из всех заблуждений ума самое тщеславное — считать, будто автор продолжает жить в своем произведении, тогда как единственный шанс на нетленность у самого произведения состоит именно в способности изринуть из себя, отвергнуть автора, очиститься от него, избавиться от примет наследственности и свести практически к нулю последствия чьего-либо существования, о котором в свое время посчитали нужным заявить.
Именно этот пепел будет развеян временем. Уверенность в этом жила в тебе волнующей надеждой, ибо вместо того, чтобы удалять тебя от возможной судьбы, она превращала тебя не в настырное выражение индивидуальности, а в свидетеля никем не признанной истины, которая ослепляла тебя своим светом каждый раз, когда ты оборачивался к прошлому.
«Они разбили мои оковы в покоях императора…» Я нашел эту фразу в «Незапамятном», в отрывке, посвященном смерти Траяна. Большинство критиков продолжают ломать голову над тем, какой в этом кроется смысл, заявляя обычно, что Атарассо изобразил себя в облике старого императора, который во время парфянского похода очутился в тех краях, где сам он проработал всю жизнь. Никто как будто не заметил, что это единственный не сказочный, не вымышленный ориентир в твоем воображаемом путешествии. Вся вторая часть произведения — если рассматривать его как единое целое — строится вокруг этой войны, затеянной с целью обеспечить безопасность караванов, идущих в Азию, и установить власть Рима надо всеми дорогами до самого Персидского Залива. Поскольку Атарассо всегда интересовался поздним периодом месопотамской истории, а в особенности парфянской глиптикой, никого не удивило, что он упомянул о нескольких эпизодах завоевания и отождествил себя с императором.
Действительно, ты бы мог выбрать и какой-нибудь эпизод из «Отступления десяти тысяч» Ксенофонта[77] или сон Александра, созданный твоим воображением. И здесь твой выбор не случаен. Ты не пытаешься выступить в роли историка, которого не доставало парфянской войне. Да, это была победа, но неоднозначная: хоть она и знаменует собой апогей императорской власти, «победитель сам стал военным трофеем», как говорится в приведенной тобою фразе. Это победа, которая могла бы стать переходным этапом к провалу и отречению. Это печаль при виде триумфа, какая звучит и у Лоуренса Аравийского. Тебя привлек образ не императора, превозносимого молвой, а человека, который, обернувшись к Востоку (я уже приводил этот отрывок в другом месте), мечтает о невозможном завоевании, а затем, сраженный болезнью, умирает на обратном пути, лишенный триумфа, который ждал его в Риме. Селинунт — это слово запечатлелось в твоей памяти, и я прекрасно знаю, чем оно было для тебя. Что касается символичности голой комнаты, где гений старика сложит крылья фортуны у его изголовья, то этот символ так и останется непонятен комментаторам, которые, не зная о твоем существовании, никогда не догадаются, почему Атарассо выделил из череды эпох этого героя, разочарованного своей победой и приемлющего эту пустую форму, для заполнения которой уже недостаточно видимой славы и успеха.