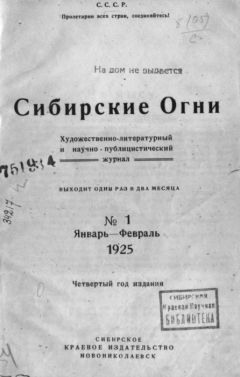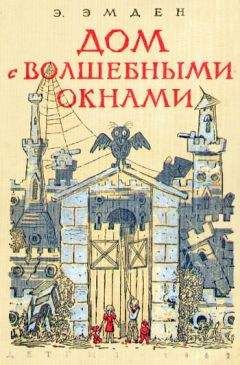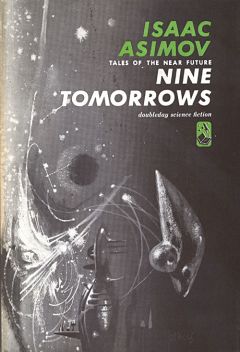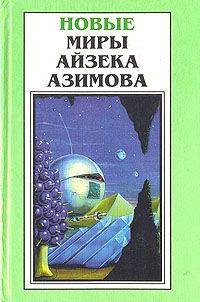Исаак Шапиро - Черемош (сборник)
Между прочим, я на губу в первый месяц попал. За то, что город незнакомый.
Проводил после танцев одну толстушку. Пышный бабец, правда, глаз немного кривой, зато полпуда за пазухой. Выпили-закусили, остался у нее ночевать.
А к рассвету у меня пузырь полный, лопает терпелка. Я – в сапоги и тихонько во двор. На улице свежо, иней лежит. У меня после выпивки голова ровно не держится, пиво с водкой мешал. Облегчился, а обратным путем, возможно, неверное направление взял. Нужную дверь не найду, все заперто. Дворы закоульные, плутаю в них. Заметался от дома к дому. А на мне, заметь, только армейские кальсоны, и те спадают от переживаний.
Стал я в двери тарабанить. Молчат. Или дрыхнут, или боятся. Наконец за одной парадной мужик спрашивает:
– Чего надо?
– Дверь, – говорю, – потерял.
– Топай дальше. Выйду – зубы потеряешь.
Растолковал свою беду: толстушка, один глаз косит, а как зовут – не знаю, выскочило, как зовут…
– Нету, – говорит мужик, – у нас без имени. Косые – есть, но без имени – не бывает…
А я зубами тарахчу. От холода хмель испарился, матюками не согреешься. Были бы спички, я б им пожар устроил, они бы из окон прыгали, но зажигалка в брюках, а брюки – неизвестно где. Чувствую – погибель в затылок дышит. Бросился по улицам, казармы искать. Ранние прохожие в подворотни ныряли, наверно, считали – из буйного отделения сбежал.
Приперся в часть – синее трупа, а Клепиков на проходной. Трое суток гауптвахты – это немного, если города не знаешь.
Искал потом толстушку и хату ее, да без толку. Главное, ремень жалко, и зажигалка импортная.
Не торопи. Толстушка – это для затравки.
Настоящий интерес к другой был. Так голубились – до загса могли дойти. Но и тут Клепиков примешался, и наша сладкая дурь с горы покатилась, черепки не собрать. Только, Мишка, чтоб разговор между нами умер, крест!
Перед дембелем, сам знаешь, время волами плетется. Беспокойство в голове от близкой свободы. Три года за спиной, скоро – айда! – застучишь по рельсам!
У меня в то время на повестке дня была Валюша. Не то чтоб просто давалка, а мировая девка! Таких уже нет! Прикипела ко мне, и я тоже не против. Вызывает, бывало, к воротам: «Без тебя, – говорит, – день серый…» Я от ее слов совсем дурел. Встречались мы в увольнение. Но это все одно что в засуху веничком кропить. Аппетит только раззадоришь.
Напарником жил со мной татарин, толстый, сонный писарь. Акчурин фамилия. В очках слабо видел, а без них – вообще крот. И спал он не по-людски: голову под подушку и оттуда заводил храповицкого. Знаменито храпел, оттого ко мне поселили. Старшина пристал:
– У тебя служба кончается, потерпи. Ты спокойный, а в общей казарме все нервными стали, они его задушат. Жаль татарина. Почерк у него красивый.
Каптерка наша в конце коридора ютилась. А окно выходило на тыловую улочку. Склады там стояли. Вечером – никого, на целый квартал – один фонарь сиротой.
Вот при такой пустынной обстановке пришла мне шалая мысля. С какой точки ни глянь – всё клеится, всё – в масть.
Как говорил отец: трус в карты не играет. К тому ж, два этажа под нами служебные, с вечера окна темные.
Значит, такой фортель: из двух швеллеров и ролика между ними соорудил блок навесной. Для упора койку к окну подтянул. Веревку надежную добыл, на конце – серьгу сплел. Портянкой чистой обмотал, чтоб в серьге сидеть удобно было.
В один из вечеров, после отбоя, Валюша на улочку явилась. Я ей – веревку вниз. Пристроилась моя красава в серьге и как королева поплыла по воздуху на третий этаж. Я тебе говорю – черт в юбке! Другой такой, клянусь, не встречал!
На всякий случай дверную ручку шваброй заклинил, хотя было лишне: Акчурин под подушкой так выл, что к нашей двери никто по доброй воле не подступался. Только нам тот шум не помеха.
До часу пробыла Валюша у меня. А после тем же путем на землю вернулась.
Пошли у нас неудержимые встречи. И в дождь, и в ясную погоду. Бывало, так и говорит: «Хоти меня». А я и без намека хочу. Конечно, и холостые ночи случались: когда заступал в наряд или у ней технические неполадки. А если без помех, то жгли мосты! На здоровье не жаловался. Помню, только сна не хватало, лицом пожелтел. Но – голь на выдумки хитра.
Не дело каждый вечер высматривать из окна подругу, в туман или в морось. Для общей пользы ввел сигнализацию. Тонкий шнур с грузилом свесил до первого этажа, а другой конец к ноге присобачил. Придет Валюша, за шнур дернет, а я задней конечностью сигнал принимаю, как весточку от желанной.
Однажды жду свиданья. Где-то за городом гроза готовится, грома шумят. Лежу себе вольно, только нога начеку. И вдруг мне причудливый сон: рыбу поймал. Солидную. Она хвостом хлещет, обратно в реку старается и меня за собой тянет, на прицепе. Я на глине оскользаюсь, вода все ближе, уже одна нога в трясине увязла, засасывает, не выберусь… Открыл глаза – так и есть: шнур за ногу дергает – вставай, лодырь!
Темень за окном. Приладил я подъемную систему, веревку с серьгой спустил, сон из головы не уходит. Рыба – это к морозам, но какой мороз в мае? По небу зарницы сигают. Тяну веревку, тяжело идет, должно быть, спросонья сила вялая, а сам гадаю, к чему рыба привиделась…
Наконец, подтянул свою милашу, вот-вот обниму… Тут молния жахнула. Смотрю: вместо Валюшиных плечиков – звезда на погоне блестит. Совсем не женская личность получается. Я вмиг веревку из рук выпустил. Не спрашивал, кого он ищет, просто пальцы разжал – и в окне опять пусто. Сердце с перепугу как колокол бухало. Даже не слыхал, как он там шмякнулся.
Что я той ночью пережил – таких слов нет. Знал, с минуты на минуту придут брать меня. Попрятал по закуткам свои железяки, добро – веревка к койке привязана была, не выпала на улицу. Понимал: напрасная затея, ведь найдут, суки. Но сидеть сложа руки – еще хуже.
Ночь промаялся, никто не пришел. Только Акчурин под подушкой скулил, мои кишки на штык наматывал. Я даже подумал: не спихнуть ли его тоже в окно, за компанию, – все равно один ответ…
Утром смотрю: офицеры сходятся, шепотню ведут, физиономии постные. Мне причина известна. Но непонятно, зачем в кошки-мышки играют? Неужто рассчитывают, что с повинной прибегу? Мол, ночью ко мне офицер вместо бабы полез. Пришлось сбросить с третьего этажа, в целях самообороны.
Ладно, думаю, надейтесь, ждите дождика в четверг. Это дерево сперва садят, потом – фрукт зреет. А я – дурак, у меня – наоборот: я еще не созрел, чтоб меня посадили.
Тем временем от лишних улик избавился, в сортире утопил. Но легче не стало. Неизвестность грызла, от догадок мозги гудели. Оглянуться назад страшился: думал – следят…
Но вскоре в полку объявили про несчастный случай. Следствие было. Оказывается, майора Клепикова хулиганы побили. От удара нерв какой-то порвался. Ни ногой, ни рукой не шевелит. И голоса нет. Одни глаза моргают. Очень важный нерв. Зашить нельзя и склеить тоже.
Кончилась его автобиография. Накрылась амперметром.
Тревога у меня малость притихла. Но до самого дембеля как психованный часы подсчитывал. А проездной литер получил, срочно в Макеевку завербовался, на Донбасс, по соображению: вдруг Клепиков заговорит – под землей, в шахте, заховаться можно.
Валюше обещал писать, но я на письма тяжелый, и адрес где-то затерялся… На новом месте другие адреса появились. А в те края больше не заглядывал, не дразнил удачу.
Вот это ты в точку: выпьем, чтоб нерв не рвался!
Нет, не слыхал. За все годы никого из армейских не встретил. А спроси: чего он, мудак, полез, куда не звали? Шнур подергал – это понятно, привык дергать. Но в петлю зачем сел, хоть убей, не пойму. На что он рассчитывал? Цветами его встречу?..
Кто спорит – веселого мало… Паралитику не позавидуешь. Какой ни есть, а человек – живое мясо, и душа в кармане. Пусть по заслугам, пусть в грехах, как в репьях, но это не причина, боль от этого не слабже.
А с другой стороны: за того белобрысого, за тот двор вонючий полагается Клепикову лежать бревном.
Да разве он один… Им потом ордена, «героев» давали, за то что танками… по баррикадам… прямой наводкой…
Вот какая каломуть. А ты говоришь…
Раньше считали: за все недоброе в свой черед расплата приходит. Не верю. Сказки для нищих. Если б так было, знаешь сколько таких вниз бросать надо, не с третьего – с восьмого этажа… Этажей не хватит! Оттого, видать, они дачи строят, чтоб невысоко было.
Не спорь, парень, это не расплата. Просто, не повезло Клепикову, плохо приземлился. Не по инструкции.
Дощечка на глазах
Карпаты. Перевал Нимчич.
У дороги, в начале спуска, на каменном пьедестале стоит солдат из серого бетона, опустив голову и преклонив колено. На груди его бетонный автомат. Солнце уже поднялось высоко, но памятник пока в тени гривастой ели, разлапистой, заматерелой от долголетия. На столбиках ограды провисли толстые цепи, темные, влажные, еще в утренней росе.
С этого места деревья не заслоняют пространство, и видно окрест широко: на зеленых склонах игрушечные рубленые хатки с лентами тропинок, внезапное серебристое тело реки, извилистое и ускользающее меж холмами, предгорье в красно-бурых лесах и сами горы, светло-лиловые, вершина за вершиной уходящие вдаль, и чем дальше, тем гуще и темнее, до синевы.