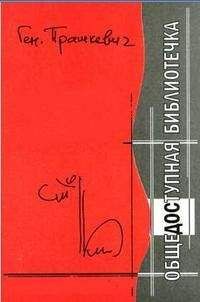Зоя Туманова - Розы в ноябре
«Хорошо!» — вздохнул кто-то, и ветер ответил вздохом, звезды ресницами замигали…
И напелись мы, и наплясались на краю города, у пустыни на виду. Сказал Антипов жениху с невестой:
— Широкая у нас свадьба! А жизнь пусть будет еще шире — как земля эта, как небо над нею…
Двинула, потекла, покатилась свадьба обратно, к огням городским…
Жених в халате яркополосом, и платок поясной завязал. Идет меж парней, не идет — танцует, плечами поводя, пальцами прищелкивая, все в нем горит от радости великой. А невеста, Златочка, золотая, подругами окруженная, лебедем плывет; фатою, как туманом, окутана.
А я в толпе подруг, и не глядя, одну вижу.
Дивчина ты моя, девонька! Беленькая вся, словно мама тебя в молоке купала, платьице на тебе легкое, рукава фонариком, дохнет ветер сильней — и подымет, как с одуванчика пушинку.
И когда ты, умница, успела, и где ж ты смогла упустить в воду свое золотое ведерко, поплыло оно, на волнах качаясь, сердце мое казацкое унося…
Люба ты, Любочка, веточка моя вишневая! Отчего ты — не та невеста? Отчего я — не тот жених?
А может, так оно и сбудется, люди?
IV
Ночные улицы
— Примем твое молчание хоть за половину согласия! — чуть пережимая на оптимизм, воскликнул Громов — и пошел провожать.
Ася не спорила, не было сил, — ну, пусть идет рядом, пусть, пусть раскидывает перлы своего красноречия.
Луна светила тускло, рассеянно, призрачно, в небе выстраивались нефритовые дворцы облаков. На конце ветки, нависшей над тротуаром, качался одинокий лист, желтый, как лимон. Давила душноватая теплота вечера: в природе что-то вызревало.
— Знаешь, Асенька, Я всегда искал динамику в себе, а теперь вижу — она в людях! В здешних людях! Все это так заражает и заряжает, прости за каламбур! Я весь наэлектризован — еще повоюем, еще поймаем бога за бороду!
…Знакомый поворот, всполохи света — ресторан «Джузгун». Зачем живет память?
«Ну, как, женулька? На уровне?» — такое довольство собой звучало в голосе Арсения, словно этой работой решились на десять лет вперед все проблемы архитектуры.
Ася осматривалась, не спеша с восторгами, которых от нее так явно ждали.
Оркестр — в «гроте из сталактитов», довольно натуральных. В общем зале стекло и пластик, в банкетном — сверкают плоскости полированного гранита. Входные двери тяжелые, резные, как на картинах Верещагина, оттуда же скопированы медные кованые кольца вместо ручек. Чеканка и мозаика. Модные кресла на паучьих полусогнутых ножках. Взятое в отдельности, все это было красиво, но не сочеталось, не держалось единством замысла.
Не дождавшись ответа, Арсений ринулся к другим, пожимал руки, жмурился, как кот на солнце, выслушивая комплименты, благодарил…
Ася вздрогнула: словно в ушах прозвучал этот голос, отвратно-ласковый, нежно-вздрагивающий. А ведь это другой, другой…
— Мейерхольд говорил: «Художника учит собственная кровь». Отыскать источник эмоций и пить из него взахлеб! Если хочешь знать, неудавшаяся любовь — тоже счастье для творческого человека. «Болезнь, от которой не хочешь искать исцеленья…»
…Уж ей ли не знать эту болезнь.
После сумасшедшей ее глупости, после той встречи в библиотеке — сколько надежд! — пряталась, убегала. И все же столкнула жизнь.
Горячая волна стыда и боли окатила всю ее, пол уходил из-под ног. Андрей заговорил, как всегда, ясный, оживленный, светящийся дружелюбием. И тогда пришло еще более горькое пониманье: не была ее любовь отвергнута, просто и мысли такой не взбредало человеку в голову, даже и не веяло меж ними ничем, кроме дружбы, открытости, простоты…
И это было стократ хуже, это была невозможность, полная, навсегда!
…Убегали в даль улицы красные огоньки автомобилей. Тихая, безнадежная тоска сдавила грудь Аси. Расплылись, замигали фонари.
Громов читал стихи Давида Самойлова — и как читал! Ножом поворачивалось в сердце каждое слово: «О как я поздно понял, зачем я существую, зачем гоняет сердце по жилам кровь живую…»
И снова обожгла память — тогда, в первые дни после разрыва с мужем, странное оцепенение охватило ее, равнодушие ко всему… Ехала в автобусе, их машину стукнул какой-то заспешивший самосвал, заклинило дверцы, не сразу удалось открыть… Собралась толпа, пассажиры автобуса, возбужденные пережитой опасностью, бурно рассказывали о происшедшем, что «вот, были на волосок», громко ликовали, что все обошлось. Ася слушала — и поймала себя на мысли: ну и пусть бы, все равно…
Тогда она обманулась в том, что прекрасна любовь, в том, что встретила прекрасного человека. А если этого нет, не бывает, — для чего жить? Но разве теперь — то же самое? Разве не убедилась она, болью своей, в том, что Андрей — прекрасен? Ясным светом своей души, раскрытостью для всего доброго… Прекрасен и тем, что не способен ее пожалеть, приголубить «просто так», как смог бы другой, прекрасен тем, что даже помыслить об этом не умеет, не может! Чистый, спокойный, добрый для всех!
…И все-таки, все-таки — если б он мог!
— Архитектура должна будить эмоции, не так ли, Асенька? И в вашем городе это достигнуто. Его вертикали окрыляют…
…И когда он успел съехать на это? Архитектура. Вторая природа, творимая людьми — и для людей.
Высятся дома вдоль улицы, фасады, где больше ярких окон, чем темных, похожи на перфокарты. Окна, окна… И за каждым — трепещет и светится человеческая судьба.
* * *Кроны деревьев, подсвеченные фонарями, похожи на парчовые шатры… Листья, гонимые ветром, бегут по асфальту.
— Смотри-ка, по хрусту идем, — Женька поддала носком туфельки шумный ворох листвы.
— Меня это не колышет! — Макс, подпрыгнув, ухватился за ствол деревца и крутнулся вокруг — Эх-ха! Чувствую припадок сил!
Женька остановилась, воздев руки, затрясла кулачками:
— А ну, прекрати! Такого только на свадьбы звать — допился до грани фантастики! На кого ты похож?
— А чего? В кримпленах не ходим, а джины у меня мировые! Как из жести, сами на полу стоят. Не штаны, а сооружение!
— Нашел разговор, с девушкой… И чего ты за мной увязался, кавалер? Где твоя Арина? Душа перекидчивая! Кому-никому, лишь бы зубы заговаривать!
— А вот тут вы плохо информированы, мадам! Это наш дорогой бригадир расшатал мою личную жизнь. Посидел я с Ариной на лавочке часов до двух. Прихожу в общагу — и вижу нахмуренную бровь.
«Девушке, — говорит, — (это Арине!), жизнь строить надо, семью создавать, а ты тут причем? Тебе семнадцать, а ей двадцать два!» Парирую классикой: «Любви все возрасты покорны!»-«Ты, — говорит, — не взрослый, ты — рослый! Взрослый тот, кто ответственность сознает!» И тянул профилактическую беседу, пока меня в сон не ударило, наобещал я ему всего, лишь бы отпустил душу. Так что свободен — и к вашим услугам…
— Больно ты мне нужен.
— А чем я плох, скажите, пожалуйста? Мозги правильно поставлены. Руки не зря пришиты. Я еще вашего Андрея свет-Васильича перемастерую.
— Мастер. В кавычках, да еще и в двойных. Не ты ли позавчера белый кафель с кремовым перемешал?
— Белый, кремовый… Мелочи жизни, Женечка. Разве я для этого рожден? Да я в свои семнадцать успел и поколесить, и покуролесить по белому свету! Одна Рузанка понимает! Знаешь, что она про меня сочинила?
И внезапно подбросил молодое, беспечное тело, вскочив на скамью, продекламировал с выраженьем:
И опять ручьями раскатится снег,
Снова в путь позовет весна!
Он пропащий навек, он такой человек,
Для которого жизнь тесна!
Подвел голос, на выкрике сорвался по-петушиному. Максим притворно закашлялся.
— Чего — опять тронуться думаешь? В Баку потянуло? — усмехнулась Женя.
— Потянуло, не потянуло… Подловили меня тут на крючок соцкультбыта. Как вечер, охота топнуть во Дворец. Сама знаешь — Громов хвалит, это тебе не кошка чихнула. И зрительницы некоторые одобряют…
— Делать им нечего.
— И чего ты, Женечка, ершом таким ко мне? Мы ж из одной бригады! Хоть бы на чаек когда позвала. Культурно.
— Вот именно — на чаек. И вот именно — культурно.
— А чего?
— Да так… Есть среди вас всякие. Встретился сегодня один гад, аж затрясло меня от злости…
— Да разве тут есть гады? В образцово-показательном городе?
— Лес лесом, а бес бесом.
…Идут двое по шелестящим лиственным коврам. То возьмутся за руки, то отпрянут друг от друга…
* * *Георгий Дрягин посмотрел в зеркало, остро возненавидел свои глаза — смутные, цвета морской зыби, свое лицо — втянутые щеки, скулы яблоками, прямой рот; тоже мне, византиец. Ван-Гогочка — это в тридцать с лишком!