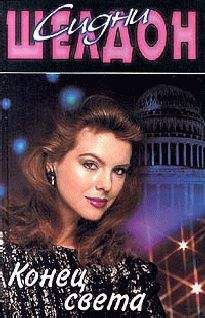Стив Эриксон - Дни между станциями
Он слышал реку вместе с ней. Он прижался ухом к ее груди, прислушиваясь, и через ее тело слышал воду и лед под ними. Точно так же он увидел и ее видения: отбросив повязку, он мог теперь заглянуть в золотой вихрь волос, бушевавший вокруг ее лица, и видеть то, на что смотрела она. В самолете по пути в Париж, кружа над городом, он наблюдал за ней, пока она глядела из окна, и видел на ее челе костры на улицах, в лавках, на реке, у ворот метро. По ее виску катились сотни клубов черного дыма, поднимавшегося надо льдом; городские шпили высились в тени глаз ее, и мосты Сены лежали на губах ее. Он опускал глаза на ее груди, брал их в руки и улавливал в изгибах ее тела то миг в переулке на Монпарнасе, то в Латинском квартале, то в Швейном, на востоке от Шателе; он слышал соборные колокола.
Меньше часа пробыли они влюбленными в Париже, когда он овладел ею на лестнице отеля; ключ выскользнул из его пальцев, и он рывком расстегнул пуговицы на ее юбке, спустил ей трусики до щиколоток, в то время как она держалась за перила. В ту ночь они занимались этим в кустах у музея Оранжери, когда он уперся взглядом ей пониже спины и увидел фонари площади Согласия, расплывчато и бесплотно сиявшие сквозь дым. Он набрасывался на нее по всему Парижу: в закрытом дворике близ Плас-Пигаль, где он увидел промеж ее бедер прозрачный лик за цветистым витражом; в Булонском лесу, где краем глаза заметил, как сумрачно-черная листва шелестит по ее шее. На ее плечах он увидел парижские кафе и овладел ею в самом дальнем, темном углу подземного грота несколькими секундами раньше, чем тот закрылся и окончательно погрузился в темноту; рядом играл джазовый оркестр, и она чувствовала жар, пышущий из каменных стен, сквозь свитер и на щеках, когда он был внутри нее. В ее ладонях он увидел, как потускнели и умерли фары такси, и вошел в нее, и стекло витрины за ней стало скользким от ее горячих бедер; когда они остановились, такси снова включило огни, и они сели внутрь.
Месяцы спустя, когда он ехал по Франции на поезде без нее, он понял, что ожидал, что однажды, в одном из этих мест в Париже, они вдруг споткнутся и оба разом вспомнят, где и как встречались раньше. Приехав в Париж в погоне за прошлым, он считал логичным, чтобы их прошлое пересеклось с настоящим где-нибудь на углу, на мосту; он внезапно вновь обретет все, все вернется к нему, и она – так же внезапно, с таким же порывом – откажется от того, что ждет ее в Венеции, поскольку поймет, что ей это уже ненужно и необязательно. Но этого не произошло. В «Америкэн экспресс» ее ждала телеграмма от мужа, сообщавшего, что велогонки в Венеции откладываются до ранней весны; а Мишелю вовсе ничего не открылось, кроме воспоминаний о том утре, когда он проснулся у себя в комнате и жизнь оказалась чистой страницей. Они решили остаться в Париже, пока он вновь не найдет кое-что, а именно – тот фильм, который он собирался спроецировать на стену своей квартиры в то утро на бульваре Паулина, а вместо этого нашел какую-то старинную пленку, исторический артефакт немого кино со сценой убийства.
Он понял и смирился с тем, что ей придется вновь увидеться с Джейсоном. Как он ни хотел ее, он понимал, что принуждение с его стороны исключено – что она сама должна была решить оставить Джейсона, сама должна была разрешить свои сомнения. Вообще-то он не мог понять ее сомнений. Он не мог понять, почему она вообще колебалась; его возмущало, что ему приходится соперничать с Джейсоном, который – как понимали и Мишель, и Лорен – не заслуживал второго шанса. Но этого понимания отчего-то было недостаточно. Лорен было недостаточно, что Джейсон не заслуживал второго шанса; ей все равно требовалось самой отказать ему в этом шансе.
Ей казалось, что она готова это сделать. Она могла запросто перечислить все обиды, что он нанес ей. Его романы на стороне можно было сосчитать на пальцах обеих рук, но для всех женщин, с которыми он просто переспал, требовалось столько пальцев, сколько у нее не было. Она могла забыть об этих женщинах, она могла примириться с тем, что он всего лишь вдевал в них свой член, не оставляя им ничего, кроме набежавшей белой лужицы. Но телефонные звонки – это было уже другое; все эти женщины, что звонили и умоляли ее, его жену, всего на секунду дать им поговорить с ним. И в ее голове звучали все эти слова: те, что она сказала при венчании – проклятый обет, – и те, что слушала по телефону; и все они уже осточертели ей. Ей осточертело их слышать. Она задумывалась: уж не за то ли она любит Мишеля, как мало слов он произносит?
Почему? – спрашивала она себя, глядя на него. Почему ты? Когда он в первый раз занялся с ней любовью, она выкрикнула его имя, потому что боялась. Снова слова: врачи велели ей быть осторожной, и ей мерещилось, что длинный тонкий шов в животе лопнет и что-то выпадет из нее. Но она не лопнула, и ничего не выпало, и вскоре она лишь алкала его присутствия в себе; она ловила себя на том, что рвет ногтями его спину и дергает его за волосы. Ей была ненавистна сама мысль о том, чтобы отказаться от него. Она совсем забывала о Джейсоне; она не чувствовала ни капли вины, вбирая в себя Мишеля. Почему ты? – снова спросила она себя и укусила его за ухо; она предположила, что все дело в его глазах, и заметила, что он выглядел бы совсем молодым, если бы не эти глаза – печальные, страдающие от ран, которых даже он сам уже не помнил.
Мишель, говорила она и не знала, что сказать дальше. Когда он был в ней, в мире не было больше никого, кто мог бы быть на его месте. Когда он овладевал ею, она никак не могла разобраться – она ли его рабыня, или он ее раб. Ему казалось – и так, и так. В какой-то момент – после того, как поцеловал ее в тот поздний час на лестничной площадке, но прежде, чем увидел ее спящей в больнице, – он решил завоевать ее. Он понимал, конечно же, ему хватало ума понимать, что его первое знакомство с ней, до того как он проснулся в Париже тем утром, могло случиться где угодно, когда угодно: он мог случайно заметить ее на улице, в проезжавшей мимо машине, вообразить ее во сне. Это могло быть нечто в высшей степени мимолетное и на первый взгляд банальное, но она была той, кого он помнил, – потому что она была той, которую он должен был помнить. И все же вопреки этому, вопреки его знанию, что она ему предназначена, он всегда подходил к ней со страхом, едва не вводившим его в оцепенение: судьба не подтверждала его уверенности. Скорее он видел себя чуждым судьбе, ненужным судьбе; он шел не по начерченному плану. Ни Мишель, ни судьба не верили друг в друга. И потому, когда он пришел к мосту Пон-Нёф, обменявшись пленкой с Флетчером Грэмом, а она не явилась на встречу, его обжег холод – холод не льда и не гулявшего по реке ветра. Он подождал и наконец, разозлившись, повернулся, чтобы уйти, и прошел до бульвара Сен-Мишель, где тупо уставился на фонари. Тогда он вернулся обратно и увидел, как она возвращается от моста по льду, к барже, вмерзшей посередине реки. И он последовал за ней и, как всегда, овладел ею.
Он узнал о бутылке той же ночью, позже, когда вернулся старик, называвший себя Бато Билли. Билли, казалось, не был ни встревожен, ни рассержен, ни даже удивлен появлением молодого человека; он встряхнул руку Мишеля – один раз – с французской церемонностью. Мишель заговорил по-французски, и старик ответил. Лорен, стоя в тени, все еще прижимая к себе бутылку, говорила мало.
– Ты нашла глаза, – заметил Билли, показав на бутылку; она лишь молча поглядела на него.
Он перевел взгляд с нее на Мишеля; мужчины оба посмотрели на нее, потом друг на друга.
– Да, – сказал старик, – удивительная вещица, правда? Можно подумать, каждый там видит что-то свое.
Он помнил, как ту же бутыль однажды держала другая белокурая женщина, но он давно оставил попытки разобраться в своих воспоминаниях, осознав, что это уже не важно.
– Если хочешь, можешь взять себе эту бутылку, – сказал он. – Это будет мой подарок тебе. Но взамен ты должна навещать меня, пока будешь в Париже. Судя по реке, я пробуду здесь всю зиму.
– Я буду рада навещать вас, – ответила Лорен.
– А завтра придешь?
– Я каждый день буду приходить, если хотите.
Они ушли, в темноте пробираясь вдоль реки, и затем пешком добрались до отеля, отказавшись от такси, чтобы сэкономить пару франков на обогреватель.
Весь день Мишель наблюдал, как она прижимает к себе бутылку. Он не задавал вопросов, спросил только: «А что в бутылке? Старик, кажется, сказал – лед? Ты нашла лед, сказал он» [31]. Лорен ответила: «Это просто бутылка», – так тихо, что он едва расслышал; он почувствовал, что здесь что-то личное, и больше не касался этой темы. Шли дни; когда они покидали номер, она всюду носила с собой бутылку, держа ее возле груди.
Что-что, а не задавать вопросы он научился даже слишком хорошо. Он жалел, к примеру, что не задал вопросов незнакомцу с пленкой. То, что в подмене пленок крылся ключ к разгадке его прошлого, теперь казалось столь непростительно очевидным, что он чувствовал себя дураком. И схожесть женщин на двух пленках казалась слишком уж большим совпадением, хотя это не могла быть одна и та же женщина, потому что Мишель определил, что второй фильм был снят в начале двадцатых годов, а его фильм – почти пятьдесят лет спустя; разница же в возрасте женщин составляла, как он подсчитал, около двадцати лет.