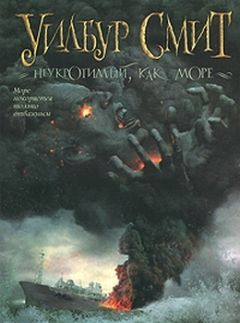Арман Лану - Когда море отступает
Валерия онемела.
Она восприняла последние слова как пощечину.
Для нее это был полный крах.
Абель встал и, свирепо пробормотав: «Теперь поняла?» (Валерия этот вопрос не пожелала отнести к себе) — вновь всеми своими девяносто двумя кило рухнул на стул.
— От этих воспоминаний у меня разыгрался аппетит, — сказал он и, точно умываясь, провел рукой по лицу. — Вы обедаете с нами, Валерия?
VIII
Абеля засасывала маслянистая Нормандия — царство моря и лугов, царство праздности и труда, страна жирного молока, масла, камамбера, подливок, отливающего золотом масла растительного, водорослей, утучняющих ее нивы, нечто сливкообразное, нечто среднее между жидким и твердым телом. Опять появился папаша Барантен: утихомирившийся предок на сей раз выглядел не столько библейским патриархом, сколько впавшим в детство старикашкой. Входили нантские, канские, руанские, гаврские шоферы — они привозили с собой вольный воздух дорог, а увозили вольный воздух морского простора. Абель начинал понимать язык домашних хозяек, тружеников моря и полей, строителей, восстанавливавших край, жандармов и железнодорожников, не считая прислуги в гостиницах, поваров с восковыми лицами, измученных, но всегда улыбающихся подавальщиц.
По вечерам телевизор давал ему много сведений об этой Франции, которую он так мало знал. Нынче вечером из прямоугольной световой лужицы вынырнул под звуки марша танцовщик в черном трико.
Танцовщик просил милостыню — он протягивал руку к буржуа, к священникам, к именитым гражданам, к генералам, к государям. Движения он заимствовал из «Ритуального танца огня»: этот танец словно нарочно был создан для того, чтобы человек, безоружный перед лицом властей, исполнил его с такой шутовской бесшабашностью. Человек отбивал ногами дробь, задирал колени, перегибался пополам и касался головой пола, затем вдруг вымахивал, как пламя, вытягивался в свечку, делал вольт, съеживался, прикрываясь от мотели и стужи, опять выпрямлялся и, стуча каблуками, откалывал отчаянный сапатеадо[31].
— Ловок, черт! — заметил один из шоферов.
Но для Абеля этот нищий был солдатом, вечным солдатом, солдатом всех времен, от Фермопил до Кореи! Солдат увертывался от пуль, от гранат, от мин, избегал встреч с сержантом, уклонялся от нарядов, прятался под мостами, залегал, скреб ногтями землю, попадал в штрафную, тревожно вглядывался в небо, спал где придется и возобновлял страшный бег там, где останавливался факелоподобный немец. Он, как милостыню, вымаливал себе жизнь.
Близок час — возвещала музыка. Абель Леклерк брел, спотыкаясь, занятый трудными поисками самого себя, и вместе с маленькой цирцеей, избавившейся от санаториев, глотал устрицы, а между тем всему суждено было начаться сызнова, и притом очень скоро.
«Она» была уже здесь.
— Гляди! — сказала Беранжера.
У стога сена, увенчанного золотой митрой, расположились подзакусить прямо на травке четыре чернички в полумонашеском одеянии. Канский автобус проходил через Сен-Бени, через «Бени-Поди ж… окуни».
— Здесь есть кладбище канадцев, — сказала Беранжера. — Вон оно, на горе.
С развилки дорог Абель не увидел ничего, кроме волнистой линии холмов, спеющей пшеницы и хвойных деревьев, черно и резко вырисовывавшихся на небе.
— Сходим туда, Малютка!
— Ну нет! У меня насчет кладбища аллергия.
Кан немыслимо было узнать. Даже Воге, зажатый между двумя высокими берегами вновь отстроенных кварталов, показался Абелю незнакомым. Старый, пахнувший гнилью островок заметно сузился. В силу антигигиенических условий этот некогда аристократический квартал постепенно превратился в квартал голытьбы и всякого сброда, любящего укрываться в тени, а теперь этот старинный грязный приют по той же самой причине вновь заселяли бедняками — североафриканцами, которых использовали на прокладке железных дорог, на земляных и восстановительных работах. «Севафры», селившиеся по шесть человек в мансарде боа водопровода и электричества, жившие в грязи, в грязи восточной, целомудренно выставлявшейся ими напоказ, превращали квартал Воге в нечто напоминающее Берберию. Здесь были маленькие кофейни, где Гнусавили пластинки с их неотвязной тоской по родине. Все это грудилось там, где в былые годы билось гордое сердце города.
Однажды Абель поехал туда один, долго рассматривал стоявший на краю нового города загадочный дом и все старался определить точное место, где когда-то находилось Мамочкино заведение. Шел спорый дождь, по лицу Абеля текли теплые струйки. Это чудное здание не изменилось с того вечера, когда он ушел от гомерической Мамочки, но никаких следов ее берлоги не сохранилось. Прячась под брезентом, посвистывали каменотесы. Город блестел. От тоски, чтобы накачаться, Абель зашел на террасу современного, пахнувшего муравьиной кислотой бара за собором св. Петра. «Попугай» за «попугаем». Выйдя из бара, Абель долго бродил под западно-европейским ливнем, от которого сверкала макадамовая мостовая на прямой, как стрела, улице Шестого июня. Страховые общества, гостиницы, банки спускались к канализированному Орну, пузырившемуся от дождя. Все здесь, под сенью мокрых павловний, было четко, все было свободно от воспоминаний о прошлом. По-видимому, мирное время в самом деле было убеждено, что ему все позволено!
На этот раз Абель напился совершенно сознательно и утром очутился на улице Каноников в убогой комнатушке. Белобрысая невзрачная женщина, Мари-Те, подала ему в постель кофе, сливки и рожки; называла она его «миленький».
В тот день, когда Малютка и ее канадец не заходили к «Дядюшке Маглуару» выпить аперитиву, завсегдатаям уже чего-то не хватало. Абель отпускал тяжеловесные, типично квебекские шутки. Беранжера отвечала ему непристойными каламбурами, смакуя именно их непристойность, или же растолковывала ему «альбом графини» из «Канар Аншене»: «Следует говорить: „Милостивый государь! Вы — мастер сатирического жанра…“» Абель сдвигал брови и вдруг разражался громовым хохотом. Вся терраса тряслась, когда хохотал «канайец».
Посетители «Дядюшки Маглуара» (бывш. «Освобождение») приходили и уходили, раскланивались, выпивали за стойкой, играли в карты, пытали счастья на «Флориде». Говорили о приливе, об убийстве. Говорили об урожае яблок, об арендной плате. Струя красноречия так и била из их уст. «Экие трепачи!»
— Тетка Бертран как убивается! Жауэн ее собаку застрелил!
— Его самого, сволочь такую, давно пора ухлопать.
— Славный был песик. Умный. Вот только кур душил. Помесь кокер-спаньеля с грифоном.
— Таким, как Жауэн, нет места на земле.
— Злодей. Сколько у него на совести темных дел!.. Налей-ка еще стаканчик, Мари-Франс. Мускат-то у тебя недурен.
Говорили о политике. Говорили о телятах. Говорили о том, какой сильный ветер, о том, что зарядили дожди, о том, какое нынче лето. Абель уже не чувствовал себя на отшибе. Он точил лясы с почтальоном, рыжеватые усы которого были мокры от «кальва». Он познакомился с маленькой Ивонной. Что ни вечер, она удирала из бакалейной лавки. Товарищи Люсьена дрались, как коты, за эту драную кошку. На другой день маленькая Ивонна, свеженькая, чистенькая, но с припухшими веками, скромно потупляя глазки, обвешивала покупателей, чтобы выгадать себе на новые чулки. Как-то вечером возле канала она без обиняков предложила Абелю неказистые свои лимоны и недозрелые персики.
— И как тебе Малютка не опротивеет! — разозлившись на то, что он в ответ рассмеялся, сказала она. — Под кем только эта шкуреха не лежала!
Она ловко увернулась от затрещины и пошла прочь, старательно виляя своим тощим задом.
Среди дня, в течение которого солнце вело упорную борьбу с ненастьем, в ресторан вошел мужчина с седеющими усами торчком, в черной саржевой куртке и черной фуражке, по виду крестьянин.
— Это гробный мастер, — шепнула Малютка.
Осушив стакан мускату, «гробный мастер» запел:
Звезда над снежною пустыней —
Душа влюбленный мои.
Беранжера фыркнула. Человек смутился. Радиола заиграла танец бешеного темпа, и танец этот подействовал на сидевших в ресторане так же, как бег человека действует на лапы дремлющей собаки.
— Музыкальный номерок бальзамировщика! Хорошо бы записать! А моего однофамильца Феликса Леклерка я попрошу положить на музыку… Слова Леклерка и музыка Леклерка! Он, то есть Феликс Леклерк, тоже служил в похоронном бюро. Верно, верно! А ты не знала? Я сам прослужил в похоронном бюро три месяца…
Абель замолчал. Его внимание было поглощено стремительным колыханием танца.
— Я люблю на тебя смотреть, Малютка, — продолжал он. — Я смотрю на тебя, потому что боюсь, как бы ты не упорхнула… Вдруг Беранжеру сдунет с террасы, ее красивая юбка надуется, как воздушный шар, под ней воланами белого нейлона на секунду мелькнут штанишки, точно взбитая шелковистая белая пена — пена от знаменитого туалетного мыла, предохраняющего, очищающего, или же стирального, в каком стирается белье канадских дам, вуаль твоя вьется, вьется, вьется на вольном ветру… и ты улетаешь, сверкая своими тоненькими ножками цвета шампанского, прелестного цвета, цвета взбитого белка. А я остаюсь один, как пес, который потерял хозяина.