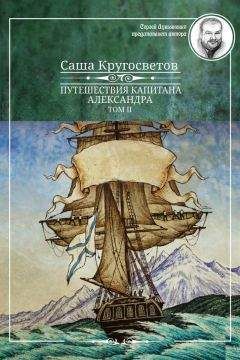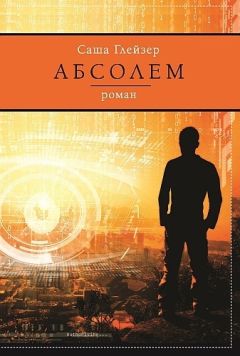Саша Окунь - Камов и Каминка
(Шмыгает носом.)
И вот…
(Исторгает слезу.)
И что ж?
(Рыдает.)
Она мне не верна!
(Испускает душераздирающий стон.)
Она мне неверна!
(Рвет рубаху в клочья.)
Моя старуха изменила!!!
(Падает навзничь, резонер подносит ему стакан воды.)
Р.:
Да, были времена, когда жена,
послушна долгу, простыни стирала,
варила суп и тело обмывала,
и ежедневно делала она
из геркулеса кашу. Как случилось,
в гармонии вселенской надломилось
что? Нам ответ не дан.
(Муж, всхлипывая.):
Сперва он занял стул. Потом – диван.
Затем, гордыней дерзкой обуян,
на брачное мое улегся ложе и там лежал.
А старуха, забывши клятвы, потерявши стыд,
к нему легла. И до сих пор лежит!
(Без сил падает ничком.)
Резонер (указывая на простертого мужа):
Его они затем в чулан сослали.
В пристройку для гостей.
Порой кидали кость.
Незваный, жалкий гость
в своем родном, в своем родимом доме…
(Утирает случайную слезу.)
Муж (простирая руки к небу):
Я не живу. Я существую в коме
Душевной. И один вопрос
я задаю себе: зачем я рос?
Вставал с утра и вечером ложился?
Зачем веревкой я не удавился?
Зачем учил Талмуд, пытливый ум вострил,
старательно талант, как бритву, правил,
усы растил, пытался ногти стричь,
зачем в тиши ночной того опричь
любил читать Сенеку и Платона?
Скажи, зачем я тон от полутона
учился отличать? Зачем я уши мыл?
Анализы сдавал? Мне этот свет не мил.
Зачем мне жизнь, коль смерти на пороге
служу подстилкой для чужих утех?
Зачем, скажи, в житейском поле вех,
чтобы с пути не сбиться, я наставил?
Зачем, Господь, меня Ты не избавил
от мук позора, от такой беды?
(Падает.)
Резонер (глядя на тело, задумчиво):
Коль кашу человеку не дают
немедля после утренней зарядки,
то в мире этом что-то не в порядке.
(Уходит.)
ЛАМЕНТАЦИЯ 47На свете остров есть
под солнцем где играя,
волнуясь и кипя,
друг дружку обгоняя,
ложится на песок
за валом гулкий вал.
Но я там не бывал…
Там тонкий аромат
охотно источая,
цветы цветут весь год
от мая и до мая.
Там нету комара,
там муха не жужжит,
там милый соловей,
Селены друг невидный,
на нотный стан ветвей
стеклярус светлых нот
насаживать спешит.
И гимн его летит
наверх, под самый свод
звезд полной неба крыши!
Но я его не слышу…
Там курица цыплят
без страха доверяет
опеке тигра. С ними он играет.
Зовут цыплята тигра: кис, кис, кис!
Он их не ест, поскольку гуманист.
Там крокодил лежит в обнимку с зайцем,
к нему не прикасаясь даже пальцем,
а мышка так и ластится к ужу.
Но я там не лежу…
Мужчины там умны,
собой весьма красивы,
могучие, как львы,
а сердцем незлобивы.
Там женщины стройны,
как тополя в Элладе,
имея дивный вид
и спереди и сзади.
Там ласков солнца свет,
прохладой веет тень,
и кашу там едят
четыре раза в день!!!
Там много каши!!!
И хватает всем!!!
Лишь я не ем…
Гробницею я стал. Во мне увяло все.
Скукожился мой мозг, который был немал.
Чердак, где мысль жила, коробка черепная
теперь пуста, и чувств моих подвал
стал также пуст. Красотка записная
шалунья-муза бросила меня.
Таланта моего рассохлись бочки.
Вино любви (а без него и дня
она прожить не может) утекло. До точки
роман дошел. Я музе стал обузой.
Микроб и тот не хочет жить во мне…
Готов скорее корчиться в огне,
чем обитать в пустом никчемном теле.
Я, как плевок на жизненной панели…
Да что микроб! Меня бежит бацилла!
Мне вирус изменил! Как грозный гунн Аттила,
судьба смела привычной жизни стан.
Я, как Узбекистан, почти одна пустыня!
Я – Гоби! Я – Сахара!! Каракум!!!
Когда-то мой весьма обширный ум
Усох. А многих дам святыня
Исчезла. Испарилась насовсем.
О жалкий жребий мой! Не пью я и не ем.
А если ем, то мало и не то.
Меня трясет озноб. И теплое пальто
согреть не может зябнущее сердце.
Как крохотная птичка в клетке, дверца
которой замурована навек,
нахохлилась душа. Я стал не человек.
Как Джомолунгма одинок и мрачен,
заботою и лаской не охвачен.
Один, совсем один! Окрест лишь тишина.
Ни зверя, ни людей. Цветочка тоже нету.
Здесь мрак могильный. Даже ближе к лету
снега не тают. Дальняя звезда
струит свой свет, взирая равнодушно
на этот мир, на горести мои,
на крах надежд, на пепел устремлений,
на жизненный коллапс и суету волнений…
Но верю я: придет заветный миг,
и струйка каши нежно прожурчит,
и оросит иссохшуюся душу.
В полях взойдут овсы, трава зазеленеет,
она придет, печали флер развеет,
исчезнут муки, горести и сплин…
Я расцвету, как вишни Фудзиямы!
Я расцвету, как яффский апельсин!
К тому моменту как художник Каминка познакомился с Кляйманом, тот уже почти полгода находился в ожидании разрешения на выезд. Понимая, что акции любого человека, в том числе и художника, растут по мере его продвижения по иерархической лестнице и что, в частности, позиция вождя группы изначально ставит его на более высокую ступеньку, он пытался создать хоть какую-нибудь группу в Москве, но, поскольку был молод и недостаточно авторитетен, затея эта не удалась. Тогда он приехал в Ленинград и, представившись руководителем нового авангарда, предложил ленинградским художникам объединиться в группу под его руководством. Собственно, его вполне устраивало не столько действительное существование группы, сколько ее название, манифест и имена. Поначалу, выслушав предложение Кляймана об организации через дипломатов канала переправки работ на Запад с целью выставок группы в лучших музеях США с последующей продажей, питерцы пришли в большой ажиотаж, но все дело испортил змей Зелинский, у которого имелись свои взгляды на то, кто именно должен быть вождем питерских нонконформистов. Взяв слово, он заявил, что Толян хоть и хороший парень, но всего-навсего мелкая московская шпана и фарца и в качестве таковой никакого доверия не заслуживает. В прошлом, подчеркиваем, – в прошлом, Кляймана, может быть, и можно было назвать шпаной, но даже если так, то это давно уже не соответствовало истине, что же касается фарцовки, то хоть это и было правдой, но к делу тоже никакого отношения не имело, и возмущенный Кляйман с ходу профессионально – сказались уроки Марьиной Рощи – саданул Зелинского по зубам, отправив его в глубокий нокаут. Разочарованные художники, несмотря на протесты Кляймана, спустили его с лестницы и напились. Печальную эту историю и услышал художник Каминка на кухне у художника Камова, который на собрании отсутствовал по причине обхода своих лифтов.
– Пустое, Анатоль, – успокаивал он Кляймана, но тот, потирая ушибленное плечо, злобно сказал:
– Пустого в жизни не бывает. Попомнят они мне эту лестницу.
Вернувшись в Москву и узнав, что разрешение на выезд до сих пор не получено, Кляйман поскандалил в ОВИРе, был арестован и за мелкое хулиганство получил пятнадцать суток. Выйдя, он созвал знакомых корреспондентов на акцию протеста. Акция проходила за городом, в Овражках. День был пасмурен, накрапывал мелкий дождик. Когда журналисты, приготовив камеры, выстроились вокруг, Кляйман сел на траву. Кира, символизируя собой нагую истину, скинула пальто и, оставшись в прозрачной черной комбинации, чей цвет означал траур по правам человека, поеживаясь от холода, взяла в руки красный огнетушитель, цвет которого, в свою очередь, символизировал советскую власть. Кляйман огляделся, достал из кармана куртки два флакона «Красной Москвы», один флакон «Шипра», один «Серебристого ландыша», и вылил их на себя. Французская корреспондентка, побледнев, начала оседать на землю, тем самым чуть не погубив всю акцию. Француженку быстро привели в чувство, и далее она вела репортаж, прикрыв лицо мокрым носовым платком. Дождавшись тишины, Кляйман обвел присутствующих пристальным взглядом.
– Никто не имеет права тушить огонь, который пылает в душе художника, – проскандировал он и щелкнул зажигалкой.
Несмотря на одеколон и духи, огонь никак не хотел прихватывать влажную куртку, тогда Кляйман попросил шарф у Стэнли Длинного, телеоператора Star News, перепоясался им и поднес зажигалку. Шарф занялся. Защелкали камеры, и тогда Кира врубила огнетушитель. Через секунду Кляйман был весь покрыт белой пеной.
Назавтра европейские и американские газеты вышли с репортажами о преследовании одного из виднейших авангардистских художников СССР и попытке самосожжения. Тексты сопровождали эффектные кадры Кляймана в пылающем шарфе и его легендарный снимок на ноже бульдозера.