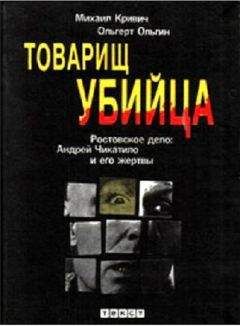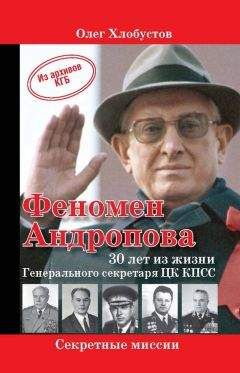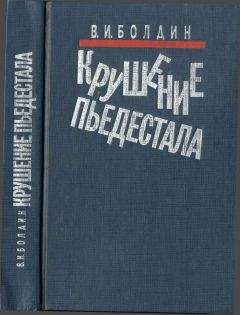Андрей Остальский - КонтрЭволюция
— Нет, нет, что вы! Это было бы с моей стороны очень некрасиво. Свинство просто.
— Ну, дело ваше…
Зинаида Львовна снова поджала губы, видно было, что Наташа ей совсем не симпатична.
— А когда можно будет получить дневники?
— Вы, видно, плохо слушали, что я вам говорила! Полгода срок. Если через шесть месяцев завещание не будет оспорено, сможете получить все сразу — и книги, и дневники. И деньги — 19 рублей 71 копейка.
— Я понимаю… но ведь дневники все равно никому, кроме меня, не предназначены. Они должны быть переданы мне — или никому. А с остальным… с остальным можно вполне подождать.
— Закон есть закон. Теоретически и это положение завещания может быть оспорено…
— Кем? У него и родственников, как я понимаю, никого не осталось.
— Что значит «кем»? Да кем угодно. В том числе и государством. Если вдруг окажется, например, что нечто из завещанного представляет собой чрезвычайную историческую или художественную ценность.
— Личные дневники одинокого инвалида войны? Или пара потрепанных книжек? Чрезвычайную ценность? Или, может быть, его гигантские сбережения потребуются государству, чтобы пополнить убывающий золотой запас страны…
— Вы напрасно зубоскалите и тем самым демонстрируете свой правовой нигилизм, безграмотность и пренебрежение к закону.
Зинаида Львовна надулась.
Наташа решила, что время с помощницей больше терять не стоит… Она вздохнула и сказала мягким, спокойным тоном:
— Скажите, а есть у вас директор? Или как он называется — главный юрист? В общем, начальник, руководитель?
— Можете написать жалобу, — ехидно сказала Зинаида Львовна.
— Нет, писать жалобу я не стану. Зачем? Но вот поговорить с начальником — можно было бы. Вдруг он войдет в положение, смилостивится… А то бог его знает, что будет со мной через полгода… И где я буду.
В глазах нотариуса сверкнула какая-то злорадная искра.
— Предупреждаю, разговор будет вполне бесполезный… только время зря потратите — и свое, и наше… Но, если вы настаиваете, пожалуйста, попробуйте записаться на прием к товарищу Полупьянову Сергею Николаевичу… если он найдет время… а я ему кратко изложу суть дела.
Зинаида Львовна не скрывала, как ее веселит перспектива встречи Наташи с начальником. И более или менее понятно было, какую интерпретацию сути дела доведется услыхать сиятельному Сергею Николаевичу…
Наташа не успела еще дверь за собой закрыть, как Зинаида Львовна уже схватилась за телефон.
В приемной ее вдруг осенило, что нужно было бы собрать предварительную информацию. И хотя это было совсем не в ее стиле — приставать с расспросами к незнакомым людям, — она решила на этот раз преодолеть свою натуру.
— Простите, — сказала она, обращаясь ко всем сидящим в приемной сразу, — есть здесь кто-нибудь к Полупьянову?
Самый мрачный человек в очереди поднял мутные глаза, сказал:
— Ну я…
— Вы с ним уже встречались?
— Да ни в жизнь, — сказал тип и отвернулся. Кажется, был в таком тяжком похмелье, что никакие красивые женщины его не интересовали.
Зато вдруг вскинулся другой какой-то тип, сидевший в дальнем темном углу.
— Я в прошлом году был на приеме у Полупьянова… Но больше я к нему не ходок…
— Почему вы остались недовольны?
— Нотариус он, наверно, грамотный… фамилии не верьте, человек трезвейший… Но лучше бы пил и курил. Черствый как сухарь… машина, робот. Никакого сострадания от него не дождешься ни за что. По-моему, никакие человеческие чувства ему не ведомы.
— А зачем вам в юристе эмоции да сострадания всякие?
— Не, не скажите… в нашем государстве закон что дышло, как повернул, так и вышло… А мне надо по совести, с понятием… так что я уж лучше к Зинаиде Львовне, она по сравнению с Полупьяновым входит в положение.
«Вот это да, — подумала Наташа, — из огня да в полымя… может, действительно не буду времени терять?»
Но все же по инерции пошла к секретарю — проситься к Полупьянову. Выяснилось, что попасть к нему на прием можно только через три недели.
— А пораньше никак нельзя? — канючила Наталья, а секретарша морщилась, словно от зубной боли и говорила: нет, никак.
В это время как раз из второго кабинета в коридор вышел худой, сухой, как вобла, с удлиненной лысой головой человек лет пятидесяти. Сквозь толстые стекла очков неприязненно смотрели маленькие глазки-пуговки.
Скрипучим голосом, под стать внешности, он принялся отчитывать секретаршу: зачем она записывает к нему на прием кого ни попадя? Назначайте только по согласованию со мной. Вот, например, эта гражданка, Шохина, кажется? Ее дело ведет Зинаида Львовна, и нет никакого смысла терять время, все равно он лишь повторит ей ровно то же самое, слово в слово, что ей уже было сказано. Что за люди такие, как не жалко им ни своего времени, ни чужого… Под конец тирады товарищ Полупьянов, а это был, несомненно, он, повернулся к Наталье. И продолжал говорить, глядя на нее, причем постепенно темп его речи странно замедлялся. Наконец он запнулся и замолчал. Стоял и не мигая смотрел на Наталью. С абсолютно невозмутимым выражением лица. Потом повернулся к секретарше и сказал:
— Елена Николаевна, зайдите ко мне, пожалуйста.
И исчез за дверью своего кабинета.
Наташа пожала плечами и, недолго думая, пошла вон. Действительно, что время-то терять. Но не успела она пройти и тридцати метров по улице, как ее окликнула запыхавшаяся секретарша.
— Сергей Николаевич примет вас через пятнадцать минут, — сказала она.
«Ох, нет, только не это, только не так!» — подумала Наталья.
Но ничего из того, чего она опасалась, не случилось. Полупьянов был более чем корректен. Разговаривал сухо — видимо, иначе не умел. «Действительно, какая-то помесь робота с воблой», — дивилась Наталья. Терпеливо отвечала на все бессмысленные вопросы. Насчет возможности досрочного вступления во владение дневниками усопшего — сказал, что вопрос сложный, требует дополнительного изучения, но теоретически некий шанс есть. Но обещать ничего не может. В завершение он записал ее номер телефона, так же сухо попросил разрешения позвонить, если потребуется еще что-нибудь уточнить. И совершенно бесстрастно попрощался.
Наталья пошла домой, не зная, что и думать.
А на следующий день у нее дома раздался телефонный звонок. Звонил Полупьянов, он хотел задать два уточняющих вопроса. Да хоть сто два, сказала Наталья и тут же испугалась: вдруг юрист поймет ее буквально?
Во всяком случае, он взял привычку звонить через день, а потом и каждый день. Говорил, правда, все так же сухо и деловито. Но задавал, в разных формулировках, одни и те же вопросы: где родилась, кто были родители, где они родились, кто они были по национальности, не проживал ли кто-нибудь на временно оккупированной территории. Не имеет ли гражданка Шонина родственников за границей? В общем, подробнейшая анкета, которую заполняют либо для оформления на работу в какое-то исключительно секретное место, либо для выезда за рубеж… Наталью подмывало спросить: а какое это имеет отношение к делу о наследстве? И вообще — не безумие ли, звонить мне ежедневно и задавать, в принципе, одни и те же вопросы? Сколько это может продолжаться и зачем? Но она сдерживала себя, потому что ей не хотелось ссориться с Полупьяновым. Причем он был вежлив, голос звучал бесстрастно, посторонних тем не касался, никуда не зазывал. Долгое время ничего не присылал. И только три недели спустя наконец пришла посылка. В ней обнаружилась коробка сверхдефицитных конфет «Птичье молоко», которые и в Москве-то купить не просто. К коробке была прилеплена записка, составленная из вырезанных из газеты букв (видимо, для того, чтобы скрыть почерк). Текст был такой: «Не могу жить без вашего голоса». А вместо подписи — журнальная фотография, а на ней — недопитая бутылка водки. Примерно наполовину полная.
«Полбутылки, — сообразила Наталья. — То есть наполовину выпито. Полупьяный».
Когда он позвонил на следующий день, она сказала: «Спасибо большое за конфеты. Свежие, вкусные!» Полупьянов пару секунд молчал, Наталья даже обеспокоилась, не разъединили ли их, закричала в трубку: «Алло, алло, вы слышите меня?» И тут его голос зазвучал снова — все такой же невозмутимый и задававший привычно бессмысленные вопросы биографического характера. То есть стало ясно, что он не собирается признаваться в совершенном. Даже вежливого «пожалуйста», или «на здоровье», или что там еще полагается в России говорить в таких случаях в ответ, даже этого он сказать не хотел. Но все-таки само умолчание было косвенным подтверждением, таким, правда, что к делу не пришьешь.
Полупьянов не сказал: какие еще конфеты, о чем вы? И при чем тут я?
Нет, ничего подобного. Вместо этого просто тишина в соответствующем месте. Как хотите, так и понимайте.