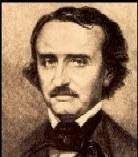Юрий Красавин - Русские снега
Опять показалось, что юная мать на иконе улыбнулась ей, ободряя и обещая защиту для сына Вани на этом свете, для мужа Игоря Макарыча на свете том и для деревни Лучкино, равно как и прочих, плененных и угнетенных снегами. Маруся смахнула благодарные слёзы и, чувствуя великое облегчение, сказала себе самой:
— Что это я… никак плачу?
И добавила неведомо почему:
— Прости меня… прости.
6.— Херувимы, — сказала Махоня, становясь возле Сорокоумовых. — Слышите, как хорошо поют?
Она была оживлена, даже радостна, словно не в церковь пришла, а в гости приглашена праздновать чьё-то семейное торжество.
— Нет, там женщины… хор, — неуверенно возразил ей Ваня, вглядываясь вверх и видя поющих, одетых в белые одежды.
— Херувимы, — решительно заявила Махоня.
— Но ведь они только… в раю, — неуверенно сказала Маруся.
— А ты знаешь, где он, рай? Может, как раз здесь.
Против этого Сорокоумовы возражать не стали.
— Как хорошо, что я этих с собой привела, — Махоня перекрестилась. — Батюшка сказал: коли всё сотворено Господом, то и они творенья Божьи.
Ваня с Марусей оглянулись, и на лицах их отразилось крайнее изумление: за белой колонной перед низко поставленной иконой дружной стайкой стояли «свои люди». Их оказалось не менее двух десятков, а выстроились они чинно: старшие впереди, младшие за ними; двое старичков стояли на коленях, остальные забавно крестились, кланялись… Толстый, похожий на копёшку сена или соломы Иван Иваныч стоял у стены на особицу и тоже неловко крестился.
— Я у отца Анаксимандра попросила за них. Он их благословил и малую иконку пониже поставил, чтоб им удобней было.
— У какого отца Анаксимандра? — спросил Ваня, хотя догадался, о ком речь.
— Да у священника, вон он! Обещал окрестить их после службы. Крещение будет честь честью, в купели — все как полагается… Что ж, не чужие — свои люди… А нынче праздник большой.
Один из «своих людей» бойким голоском пропищал:
— Нынче Введенье во храм Пресвятой Богородицы.
— Это Филя, — подсказала Махоня. — Уж такой грамотный! Всё знает.
Отец Анаксимандр между тем читал, стоя перед аналоем:
— Научи нас творить молитву твою, потому что ты — Бог наш, а мы — люди твои, твоя собственность, твоё достояние…
«Это он и обо мне тоже? — подумал Ваня. — И я достояние? Но ведь я некрещёный! Я ещё дикий человек, вроде Махониных лилипутов…».
— Не вздеваем рук наших к богу чужому, не следуем ни за каким лже-пророком, не исповедуем еретического учения, но к тебе воздеваем наши руки, молимся тебе. Отпусти грехи наши… и на страшном твоём суде не отлучи нас от десного стояния, удостой того благословения, которое получают праведники! И пока стоит мир, не посылай на нас напастей искушения…
— Не посылай на нас напастей, — повторила за ним Маруся шепотом. Сын спросил у неё, сомневаясь, можно ли ему креститься на иконы, если не крещён.
— То моя вина, — сказала Маруся и тотчас направилась к священнику. — Попрошу… может быть, он сегодня же окрестит тебя.
— В каждом из нас частица Духа Святаго, — сказал отец Анаксимандр, выслушав её, и при этом оглядывался на Ваню.
Нет, это был не Овсяник. Но почему, почему так похож!?
— Постройте прежде всего храм в душе своей и молитесь, — говорил священник. — И да будет услышана ваша молитва!.. Потом отрок придёт ко мне, я окрещу.
И во всё время дальнейшей службы о. Анаксимандр то и дело то ли с интересом, то ли озабоченно оглядывался на нового прихожанина, словно не желая выпускать его из поля своего зрения да и из поля своего влияния. Вообще Ване Сорокоумову казалось, что всё это храмовое действо обращено к нему, впервые оказавшемуся в церкви, впервые слушавшего проповедь:
— Не возноситесь в гордыне и не тщитесь постигнуть мудрость Божью… Что нам делать ныне? Не утвердиться ли на единении и не постоять ли за чистую и непорочную веру Христову, за святую церковь Богородицы и за многоцелебные мощи наших чудотворцев… Главное помните: не предавайтесь унынию или отчаянию — это великий грех. И не забывайте молиться…
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Над папертью храма сквозь снеговую толщу светило солнце. Ваня спустился по белым ступеням её и сел на деревянную скамеечку, словно для него тут вытаявшую, — раньше не было её! — та скамья оказалась тепла, под нею из-под снега выбивались кустики зелёной травки, и одуванчики цвели.
Ваня сидел, дивился: вот ступени вверх, вот ледяные в изморози двери… всё въяве. Не было возможности окинуть взглядом эту церковь, чтобы видеть внешний облик её — или у неё только облик внутренний? В этом заключался какой-то скрытый смысл, но понять его не было у Вани сил.
Маруся тоже вышла и села рядом с сыном на эту скамью; она так полна была только что пережитым, что тоже обессилела.
Из открытых дверей снежного храма по-прежнему доносилось тихое пение, ласкавшее не столько слух, сколько сердце.
И вот то, что произошло потом, каким-то странным образом расслоилось… распалось. При единстве времени и места происходил нечто, воспринимавшееся каждым по-своему, — это как если бы с разных сторон смотрели на один предмет, а видели один, скажем, рыбу, а другой лошадь, третий — просто дерево под ветром.
2.Горбунья Ольга вышла на паперть, когда ни Маруси, ни Вани тут не было: уже ушли. Ольга услышала отдалённый шум, который постепенно нарастал, становился дробным — было похоже, что мчался табун лошадей, причём очень большой.
Махоня и Анна, вышедшие к ней, тоже услышали этот конский топот, который был уже близко. Он накатывался лавиной, как накатывается на берег вал воды.
Из снега словно выломился прямо перед ними всадник; на лошадке маленькой, косматой, он сидел, вцепившись, как клещ, сгорбившись, и так был залеплен снегом, что и не разглядишь, человек ли это. Старухи и горбунья отшатнулись к дверям, а он осадил лошадь как раз возле паперти, ощерил рот — лицо мокрое, глаза узкие, раскосые, малахай нахлобучен на брови — пролопотал быстро, как в бреду:
— Ля илаха илля Аллах… Мухаммад расуль Аллах!
После чего хлестнул гривастую мохноногую лошадку и опять воткнулся в снег.
Стоявшие на паперти перекрестились, говоря одна за другой: «Нечистая сила», и вошли в церковь, притворили за собой дверь.
Конский топот морским прибоем ударил в стены храма, сверху посыпался снег, сильный ветер подул откуда-то, погасил свечи перед иконами…
3.А Маруся с Ваней миновали ту ель, что росла на канаве и служила недавно киотом для Ольги, когда до них донёсся отдалённый шум. Они остановились, прислушиваясь: шум нарастал, приближался. Явственно различили они в стороне напористый рокот, становившийся всё ближе и ближе.
— Трактор, что ли? — озабоченно предположил Ваня. — Они ж слепые, этак наедут на деревню, задавят кого-нибудь… или нас.
А Маруся явственно слышала не рокот мотора, а рычание неимоверно большого зверя. Белая кутерьма заклубилась впереди, сминая обрушивая подснежный ход, проторённый Ольгой столь старательно, и надвинулась на них.
— Стойте! — закричала Маруся и кинулась вперёд, подняв руку, как боярыня Морозова на картине Сурикова, то ли грозя, то ли проклиная, то ли считая, что так она остановит это неудержимое движение неведомо чего.
Но остановилась сама, поражённая тем, что как раз перед нею высунулась из снега громадная когтистая лапа — каждый коготь с полено! — делая размеренный шаг. А над когтями — движущая масса гигантской ноги, покрытой костяными пластинами плашками, а выше — бок чудовища в панцире.
Она мгновенно поняла: огромный доисторический ящер или дракон, каких рисуют в книгах или показывают по телевизору, ползёт на них, громыхая костяными пластинами панциря и хребта, скребя по мерзлой земле, и где-то вверху — по крайней мере три пасти изрыгают рычащие звуки.
А Ваня увидел: первая рокочущая машина, вся залепленная снегом, ворвалась в подснежный ход, пересекая его наискось. Если б не рёв мотора, было б похоже на движение снегового потока. Однако Ваня различил вращающиеся колёса и блестящие траки гусениц.
— Танки! — глазам своим не веря, выговорил он.
А уже вторая машина пересекала подснежный ход, и выдвинулась следующая, угловатая, как кирпич.
— Да это ж не наши — немецкие!
Выползла машина с брезентовым верхом; на краткое мгновение промелькнули сидящие возле заднего борта фигуры солдат в шинелях, испятнанных снегом. Они пели:
— Дюрх ди фельдер… дюрх ди ойен…
Ваня обернулся: где мать? Маруся была рядом.
— Они заблудились, мам! — закричал он ей. — Ещё с прошлой войны заблудились! Это немцы! Они поют «Через поля, через долины…».
Вынырнула ещё одна машина с солдатами… Головы их были окутаны чем-то, вроде шалей. И уж совсем не оставляя сомнений, донеслась отрывистая, лающая речь: