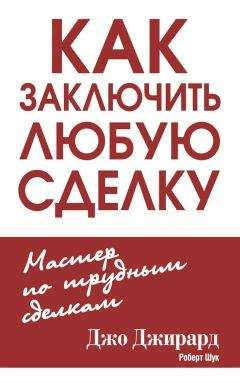Джозеф Кутзее - Жизнь и время Михаэла К.
Тут я умолкну, потому что неподалеку от нас раздается кашель, старик отхаркается и плюнет, потянет дымом костра; но мои горящие глаза не отпустят тебя, ты будешь стоять, точно прикованный.
«Я был единственный, кто видел, что ты совсем не то, чем кажешься, — снова заговорю я. — Медленно, день за днем, по мере того, как твое упрямое «нет» набирало силу, я начал чувствовать, что ты не просто еще один пациент в моей палате, еще одна жертва войны, еще один камень в пирамиде, на вершину которой когда-нибудь влезет победитель, расставит ноги и, с хохотом потрясая руками, объявит себя властелином края, расстилающегося перед ним. Ты лежал на своей койке возле окна, горел ночник, глаза твои были закрыты, наверное, ты спал. Я останавливался в дверях и, затаив дыхание, слушал, как стонут во сне и ворочаются другие больные, стоял и ждал; и во мне росло ощущение, что над одной из кроватей воздух сгущается, концентрируется темнота, черный вихрь ревет в полнейшем беззвучии над твоим спящим телом, указывая на тебя, но так, что даже кончик простыни не колыхнется. Я тряс головой, пытаясь отогнать морок, но ощущение не пропадало. «Нет, это не моя фантазия, — говорил я себе. — Это предчувствие, что смысл вырисовывается, вовсе не похоже на то, с каким я направляю свой луч, чтобы осветить ту или иную кровать, с каким ряжу по своей прихоти в разные одежды того или иного больного. В Михаэлсе скрыт большой смысл, и этот смысл важен не для меня одного. Если бы это было не так, если бы ощущение этого смысла было рождено всего лишь пустотой во мне, скажем, отсутствием того, во что можно верить, ибо все мы знаем, как трудно утолить эту жажду веры при том будущем, которое сулит нам война, и тем более лагеря, если бы сам Михаэлс был всего лишь тем, чем кажется (чем ты кажешься), высохшим скелетом с уродливой губой (прости меня, я перечисляю лишь те приметы, которые бросаются в глаза), тогда я имел бы полное право пойти в туалет за бывшими раздевалками жокеев, запереться в последней кабинке и пустить себе пулю в лоб. Был ли я когда-нибудь более искренен, чем сейчас?» И все так же стоя в дверях, я жесточайшим образом анализировал себя, стараясь разглядеть всеми доступными мне средствами хотя бы тень корысти в глубине моего убеждения, например, желание оказаться единственным, для кого лагерь — это не просто бывший Кенилуортский ипподром с выстроенными на нем типовыми бараками, но священное место, в котором мир осветился смыслом. И если такая тень жила во мне, она не поднималась на поверхность, а если ее не было, разве я мог вызвать ее силой? (Я в общем-то сомневаюсь, что можно отделить ту часть нашей души, которая вглядывается в нас словно ястреб, от той, которая прячется; но давай лучше отложим этот разговор до другого времени, когда нам не придется убегать от полиции.) И я снова обращал свой взгляд вовне — и все было как прежде, я не обманывал себя, не льстил себе, не утешал себя, это была правда, истина: над одной из кроватей действительно сгустилась, сконцентрировалась темнота, и это была твоя кровать».
Тут, я думаю, ты отвернешься от меня и пойдешь прочь, перестав понимать, о чем я говорю, и, главное, желая уйти как можно дальше от лагеря. А может быть, тебя спугнет толпа людей в пижамах, которые соберутся на мой голос из лачуг и, разинув рты, будут слушать мой страстный монолог. И теперь мне придется спешить за тобой, стараясь идти рядом, чтобы не кричать. «Прости меня, Михаэлс, — вынужден буду сказать я, — осталось немного, пожалуйста, потерпи. Я только хочу объяснить тебе, что ты для меня значишь».
Тут, я думаю, ты бросишься бежать, так уж ты устроен. И мне придется бежать за тобой по глубокому серому песку, словно по воде, я буду бежать, увертываясь от веток, и кричать: «Твоя жизнь в лагере была всего лишь аллегорией, хотя ты, наверно, и не знаешь этого слова. Да, это аллегория, высочайшая аллегория того, как сгусток смысла может попасть в чудовищную, вопиющую бессмыслицу и не потеряться в ней. Разве ты не помнишь, как ты ускользал всякий раз, когда я пытался загнать тебя в угол? Я-то помню. Знаешь, что я подумал, когда увидел, что ты бежал, не перерезав колючей проволоки? «Наверное, он прыгун с шестом», — вот что я подумал. Может быть, ты и не прыгун с шестом, Михаэлс, но ты великий иллюзионист-эскапист, один из величайших в этом жанре — снимаю перед тобой шляпу!»
Объясняя тебе все это на бегу, я начну задыхаться и, может быть, даже стану отставать от тебя. «И еще последнее, твой сад, — ловя ртом воздух, просиплю я. — Позволь мне объяснить тебе значение священного чарующего сада, который цветет в самом сердце пустыни и дает плоды жизни. Сада, к которому ты сейчас стремишься, нет нигде, и в то же время он везде, кроме лагерей. Именно в нем ты должен жить, там твое место, твой дом. Его нет ни на одной карте, ни одна обыкновенная дорога не ведет туда, и только ты знаешь путь к нему».
Кажется ли мне это или ты на самом деле после этих моих слов бросишься бежать изо всех свою: последних сил, так что даже посторонний наблюдатель поймет, что ты хочешь убежать от человека, который кричит тебе что-то вслед, от человека в синем, который, судя по всему, преследует тебя, — маньяк ли он, сыщик или полицейский? И удивительно ли, что дети, которые ради забавы пришли за нами, к этому времени начнут сочувствовать тебе, вцепятся в меня со всех сторон, будут колотить, кидать в меня камни и палки, и чтобы отбиться от них, мне придется остановиться, а ты тем временем побежишь дальше, побежишь сквозь густейшую чащобу так быстро, что всякий бы поразился, — неужели это бежит человек, который столько времени голодал, и, глядя тебе вслед, я крикну: «Я прав? Я понял тебя? Если я прав, подними правую руку, если ошибся — левую!»
III
Чувствуя, как ноги дрожат после долгой ходьбы, щурясь от ослепительного утреннего света, Михаэл К. сел на скамейку возле крошечного поля для игры в гольф на набережной Си-Пойнта и стал смотреть на море; он отдыхал, набирался сил. Воздух был тих. Он слышал, как внизу волны плещут о камни и с шипеньем откатываются. Возле него остановилась собака, понюхала его коленку, подняла лапу возле ножки скамьи. Пробежали, о чем-то щебеча, три девушки в шортах и майках, за ними тянулся хвост сладкого запаха. На Бич-роуд затренькал колокольчик уличного мороженщика, он приближался, потом стал удаляться. Наполненный покоем, в привычной знакомой обстановке, благодарный дню за тепло, К. вздохнул, и голова его медленно свесилась набок. Он не знал — спал он или нет, но когда открыл глаза, то почувствовал, что отдохнул и может идти дальше.
В домах на Бич-роуд стало еще больше заколоченных окон, особенно на первых этажах. Те самые автомобили были на прежних местах, только теперь они совсем проржавели; у парапета валялся перевернутый обгоревший кузов без колес. К. шел по променаду, остро ощущая, что под синим комбинезоном у него ничего нет, что из всех гуляющих только он босой. Но если кто-нибудь и глядел мельком на него, то уж, во всяком случае, не на его ноги, а на лицо.
Он дошел до клочка земли, где сквозь выжженную траву пробивались среди битого стекла и обугленного мусора нежные зеленые ростки. По черным перекладинам какого-то детского спортивного снаряда карабкался маленький мальчишка, его ступни и ладони были черные от сажи. К. пересек газон, прошел по улице и из солнечного света шагнул в сумрак неосвещенного холла виллы «Лазурный берег», где на стене кто-то написал черной краской из баллончика-распылителя: «Да здравствует Джо!» Выбрав себе место в коридоре против двери с нарисованным на ней черепом и скрещенными костями, за которой когда-то жила его мать, он присел на корточки у стены и подумал: «Ничего, люди примут меня за нищего». Вспомнил потерянный берет: положить бы его рядом для полноты картины, чтобы было куда бросать милостыню.
Шел час за часом. Никто не приходил. Он не вставал и не пытался открыть дверь, он не знал, что будет делать, если она откроется. В полдень холод начал пробирать его до костей, и он вышел из виллы и снова пошел на пляж. На белом песке под теплым солнышком он заснул.
Проснулся и не сразу понял, где он; хотелось пить, он весь взмок в своем комбинезоне. Нашел общественную уборную на пляже, но воды в кранах не было. Унитазы были засыпаны песком, у стены песку намело по щиколотку.
К. стоял у раковины, раздумывая, что же теперь делать, и тут увидел в зеркало, что в уборную вошли трое. Женщина в белом обтягивающем платье, в платиновом парике и с парой серебряных туфель на высоких каблуках в руке и двое мужчин. Тот, что был повыше, подошел к К. и взял его за локоть.
— Ну что, кончил ты тут свои дела? — спросил он. — Это заведение занято.
Он вывел К. на берег, на слепящий свет пляжа.
— Тут других уборных полно, — сказал он и хлопнул его по плечу, а может быть, просто слегка подтолкнул.
К. сел в песок. Высокий остановился в дверях уборной и смотрел на него. На нем была клетчатая шапочка набекрень.