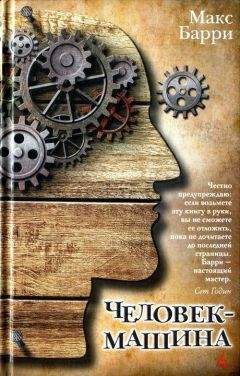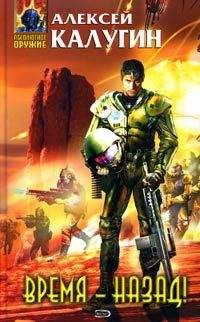Патрик Уайт - Древо человеческое
– Я не резал, – сказал малыш.
– Да вот же порез, да еще какой. Ты, пожалуйста, не смей мне говорить неправду. И играть ножом.
– Он сам мне дал.
– Он? Кто это – он? – тихо проговорила мать.
– Папа.
– Но ведь тебе запрещено играть с ножами!
Она потуже укутала девочку шалью, как бы оберегая ее от внешней жизни.
– Надо же мальчику начинать, – сказал отец.
Сегодня ему лень было оправдываться, обороняться или протестовать. Он щурил глаза от солнца и знал, что владеет лошадью и двуколкой и даже сидящими рядом женщиной и двумя детьми. Насколько вообще можно чем-то владеть. Но час молний случается не часто.
– Вот и церковь, – сказал он.
На крыше мирно ворковали голуби, как бы подчеркивая благостность предстоящего события, и на душе у матери стало радостно и вместе с тем грустно. На нее всегда так действовали церкви.
– Хоть бы она была здоровенькой, – пробормотала мать, сдерживая слезы.
А потом приготовила улыбки для старенького пастора, у которого в предвкушении священных слов то сходились, то расходились морщинки на лице, и для крестных матери и отца, которые держались вместе, гадая, что от них потребуется и сейчас, и впоследствии. Обязаны ли они всегда и навечно давать советы или, что еще хуже, деньги существу, пока еще совсем незнакомому? Родители и сами не очень понимали, почему выбор пал именно на этих людей. Но ведь нельзя же без крестных. И потому здесь очутились Осси Пибоди в истерзанной шляпе, принявшей совсем невероятную форму, и миссис Гейдж, и некая миссис Ферс, безобидная женщина, против которой никто ничего не мог возразить.
В церкви пахло, как в заколоченном деревянном ящике, и пованивало птичьим пометом, но удивительно бесхитростны были слова, что падали меж подушечек для коленопреклонения и светились в рубиновых и аметистовых лучах из двух-трех тускло горевших витражей, в свое время подаренных богатыми прихожанами, и с грубой прямотой рассказывали истории, которые по замыслу им надлежало рассказать.
Под одним таким витражом стояла кучка людей, собравшаяся на крестины. Девочку предстояло наречь Тельмой, это имя мать однажды прочла в газете – так звали наследницу какого-то скотовода. Отец поначалу колебался, но в конце концов покорился молчанию жены. Вообще-то он не придавал значения именам. Так маленькая девочка стала Тельмой. Мать произносила это имя про себя, перекатывала во рту, точно атласную карамельку, с той разницей, что в имени было что-то куда более сладостное, изысканное, недостижимое.
Когда старенький пастырь произнес имя Тельмы Паркер, прозвучавшее у него как бульканье холодной воды, мальчуган, ее братишка, заулыбался, ибо наконец уловил нечто понятное в неразберихе слов. Имя уже теряло свою таинственность, а со временем станет коротким и обычным, и его легко будет вырезать на древесной коре.
Малышка, разумеется, орала, а мать в колючей шерстяной шали была горда и взволнована.
Отец, Стэн Паркер, старался вызвать в себе чувство собственности, испытанное им на пути в церковь, но сейчас, когда к дочке вроде как припечатали его фамилию, он стал терять уверенность. Слушая слова почти незнакомого обряда, горошком катившиеся из-под усов старика, он не был уверен даже, что сапоги на нем его собственные. И близкое соседство старика стало ему в тягость. Внутренне он отходил все дальше от этого крестильного сборища. Вскоре он совершенно откровенно блуждал где-то за пределами этой топорной церкви, ничуть не стыдясь своей неожиданной духовной обнаженности. И когда он ощутил эту приятную обнаженность, поток слов, кровные связи, – все стало второстепенным перед светом познания. Он поднял лицо в ожидании неведомого дара свыше.
А потом звонкие капли воды брызнули не только на личико ребенка, но и на кожу отца, и ему стало стыдно. Он забеспокоился о плате, – когда надо дать священнику за труды? – и кашлянул, и чувствовал себя неловко, он был слишком громоздким, и стеснялся, что в руки его въелась грязь от физической работы.
– Что? – виноватым шепотом спросил он что-то говорившую ему жену.
– Она вела себя замечательно, – повторила жена с нескрываемой гордостью, словно речь шла не о малютке, а о ней самой, и расправила складки шали.
Его рука коснулась рук старого священника, они были прохладные, сухие, как бумага, и оставили ощущение безупречной кожи, и так же безупречны были его слова, когда он стал давать советы и пытался шутить, правда, не совсем удачно, так как по натуре не был пастырем-шутником, хотя и старался, как мог.
– Скоро она вырастет, станет егозой и будет ошибаться в катехизисе. Не так ли? – сказал мистер Парбрик.
Но шутка вышла натянутой. Больше всего ему сейчас хотелось смотреть на птиц в тишине своего сада.
Мальчуган, который с тех пор, как окончилась служба, бегал взад и вперед по проходу между скамьями и под разговоры взрослых влезал на подушечки и делал вид, что читает молитвенники, держа их вверх ногами, вдруг заревел.
– Что с тобой, Рэй? – спросила добрая миссис Фере, протягивая к нему руку.
Но мальчик не унимался.
– Ну, раз ты не говоришь, мы и помочь не сможем.
Но мальчик только хныкал, ковыляя на негнувшихся ногах со свежими, только что полученными ссадинами на коленках.
Вскоре все потянулись из церкви, кроме старого священника, который стоял на ступеньках, улыбаясь не столько удалявшимся прихожанам, сколько своему приближавшемуся одиночеству. Все, кто уходил в дали желтого солнечного света, даже супружеская пара, вдруг почувствовали себя одинокими. Невысокие растрепанные сосны, казалось, требовали, чтобы люди доказали свое право находиться на этом клочке земли. Свежие могилы еще не слились с ландшафтом. Пока что они были слишком тесно связаны со смертью. Смерть еще присутствовала в незаживших разрезах желтой глины. Но семья шла прочь отсюда, мимо банок с засохшими цветами, сквозь желтые цепкие шипы, и очень скоро охватившая их жуть, и восторженность, и чувство обреченности или самодовольство растворились в уютном и земном скрипе двуколки.
На пути домой, да и после, важнее всего были дети. Их детство, как обычно, было длительным. Эта длительность порой накладывала свой отпечаток и на родителей, когда они, бывало, тащились вверх по раскаленным холмам или долгими вечерами сидели, прислушиваясь к сонному дыханию детей в соседней комнате. То были, в общем, годы покоя, несмотря на явные признаки роста. О будущем говорилось не с убежденностью, а как бы по привычке.
– Мне б хотелось, чтобы Рэй в правительстве кем-нибудь был, или знаменитым хирургом, либо еще кем. В темном костюме. А мы бы читали про него в газетах, – мечтательно говорила мать.
Отец засмеялся, вспомнив, как его матери не удалось удержать сына. И смеясь, спросил:
– А что будет с коровами?
– Коров продадим, – сказал мальчуган, который теперь часто прислушивался к разговорам старших. – Оно так пахнет, это противное молоко, ну его. Я хочу стать богатым, как Армстронги, и чтоб у меня были лошади, и всякие вещи, и желтые сапоги.
Он пустился бежать по двору, чтобы положить конец родительским размышлениям, хотя и не очень верил, что это поможет. Его окружал солнечный свет, теплые и твердые очертания камней и зыбкие, пушистые – рыжих кур в пыли. Он жил тем, что он видел и что делал. Он вынул из кармана рогатку, которую ему смастерил один мальчик постарше, и уже приглядывался, в какую бы курицу пульнуть, но услышал голос отца: – Рэй, еще раз увижу с рогаткой возле кур – выдеру!
Тогда он начал царапать дерево, выцарапывая на коре свое имя, чтобы хоть с помощью рук и хоть чему-то навязать свою волю. Он уже был сильным. Сильнее сестренки, которую любил изводить. А ей, капризной бледнушке, сила внушала только отвращение.
– Убирайся и оставь меня в покое, – так научился говорить ее круглый ротик. – Все мальчишки шкодники.
Она любила играть в аккуратненькие игры с куклой и носовыми платками вместо простынь. Она разглаживала эти кукольные простынки маленькими влажными ладошками, наклоняясь над коробкой, где лежала кукла, и тонкие светлые волосы свисали ей на лицо. Они не кудрявились, как когда-то мечтала мать. Бледное золото еще больше переливалось на прямых прядях, и все же какие-то безрадостные были волосы у Тельмы Паркер. Девочка, вечная тревога матери, быстро уставала и временами кашляла. Позже у нее определили астму.
– Ты не тереби сестренку, она слабенькая, – говорила мать.
– Почему?
Он этого не мог понять. Сам он носился в одиночестве по лесу как угорелый, далеко зашвыривал камешки, окунал лицо в ручей, бежавший между валунами, и выслеживал зверьков, но ему не удавалось срастись с домашним укладом. Он не мог приспособиться.
Иногда он стукал сестренку в отместку за все то, чего не понимал. Маленькая козлица отпущения поднимала рев.
– Я маме скажу! – орала она.
Но иногда, особенно по вечерам, когда сходила усталость и смягчался дневной свет, они жались друг к другу или к матери – комочки нежности и любви – и рассказывали всякие истории, порожденные их воображением, пока не одолевала дремота. В такие минуты мать светилась довольством. Близость детей вытесняла все остальное.