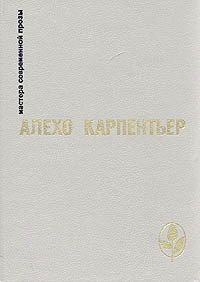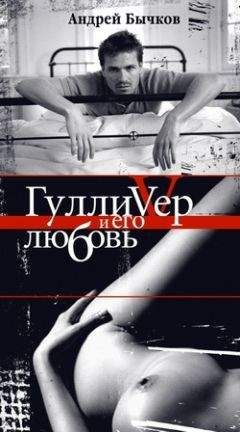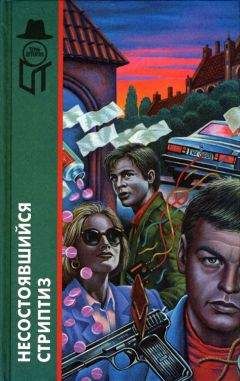Алехо Карпентьер - Век просвещения
Эстебан, захмелевший от выпитого пунша, поднялся со своего места: ему не давало покоя навязчивое желание во что бы то ни стало произнести тост в честь «милой девицы» со столь приятным голосом; однако при этом он настаивал, что обращение «сударь» и «барышня» должно быть выброшено из песни, ибо оно не отвечает демократическому духу, вместо него следует петь: «гражданин губернатор» и «гражданка». Виктор Юг бросил на юношу хмурый взгляд и жестом оборвал рукоплескания, которыми было встречено это проникнутое республиканским пылом предложение. Теперь уже все приглашенные запели хором новую песенку Франсуа Жируэ «J'ai tout perdu et je m'en fous» [79], которая как нельзя больше перекликалась с только что одержанной победой:
На стол мне прежде подавали
Цыплят и жирных каплунов,
Хлеб был вкуснее пирогов,
Хлеб был вкуснее пирогов.
Теперь война, и я пощусь,
Пайком солдатским обхожусь.
И все же громко мы поем:
«Георг, Британии тиран,
Позор вкушает, мы ж, друзья,
Напиток славы пьем!»
Когда рассвело, обнаружилось, что все спят в креслах вокруг стола, на котором виднелись недопитые бокалы, подносы с фруктами и остатки жаркого; один только комиссар Конвента, стоя в своей комнате перед раскрытым окном, уже энергично растирался губкой, беседуя с цирюльником, точившим бритву…. Но вот заиграли зорю, и к восьми часам утра под дробный перестук молотков площадь Сартин, – впрочем, теперь уже бывшая площадь Сартин, – украсилась праздничными шестами, флажками, гирляндами, аллегорическими изображениями; оркестр пиренейских стрелков в парадной форме без перерыва исполнял революционные марши – звенела медь, и грохотали барабаны. Плотники сооружали помост, откуда представители властей должны были руководить торжественной гражданской церемонией, возвещенной глашатаями. Заслышав необычный утренний концерт, люди покидали полуразрушенные дома и толпами стекались на площадь. Эстебан возвратился в портовую таможню, где стояло его ложе, он пытался унять сильную головную боль уксусными компрессами и ложками глотал ревень, чтобы успокоить печень; он даже вздремнул часок в ожидании торжественной церемонии, которая – он недаром прожил некоторое время в Париже и потому знал это – непременно начнется с опозданием. Было часов десять, когда юноша пришел на площадь, уже запруженную шумной и живописной толпою, словно забывшей о недавних бедствиях. На помосте появились представители гражданских и военных властей во главе с Виктором Югом, генералами Пеларди и Будэ и командующим флотилией де Лессегом. Люди теснились, желая получше разглядеть новых властителей, которых они впервые видели в парадном одеянии, и на площади воцарилась тишина, – ее нарушали только голуби, хлопавшие крыльями в соседнем дворе. Медленно обведя взглядом собравшихся, комиссар Конвента начал речь. Он поздравил вчерашних рабов с тем, что они стали отныне свободными гражданами. С похвалой отозвался о мужестве, которое население города выказало в дни ужасных бомбардировок, воздал должное доблести павших и закончил вступительную часть своей речи взволнованным надгробным словом, посвященным памяти Кретьена, Картье, Руже и Обера, который скончался в военном лазарете за полчаса до начала празднества, – при этом Юг гневным жестом указал на здание лазарета, как бы угрожая смерти, истребляющей лучших из лучших. Затем Виктор произнес несколько слов о Христофоре Колумбе, который во время своего третьего путешествия в Америку открыл этот остров, населенный простодушными и счастливыми людьми, жившими здоровой жизнью, какая и должна быть естественным состоянием человеческих существ; Колумб назвал остров по имени своего корабля. Но одновременно с первооткрывателем сюда прибыли христианские священники, проповедники фанатизма и мракобесия, которое точно проклятие тяготеет над миром с тех пор, как апостол Павел распространил ложное учение иудейского пророка Иисуса, сына римского легионера по имени Пантер: ведь все, что касается Иосифа и яслей, – чистая легенда, опровергнутая философами. Указав рукой на холм Губернатора, комиссар объявил, что находящаяся на нем церковь будет снесена, дабы уничтожить всякий след идолопоклонства, а священники, которые, по его сведениям, еще прячутся в окрестностях Ле-Муль и Сент-Анн, должны будут принести присягу на верность Конституции…
Эстебан, внимательно следивший за красноречивыми жестами смазливой мулатки, головной платок которой был завязан тремя замысловатыми узлами, означавшими: «и для тебя в моем сердце найдется местечко», – этот своеобразный язык был понятен каждому жителю острова, – весь ушел в созерцание выразительных ужимок молодой женщины, то подносившей пальцы к браслетам, то поводившей плечами, отчего приходила в движение ее призывно темневшая спина, и рассеянно прислушивался к речи Юга, который в эту минуту объявлял о переименовании площади Сартин в площадь Победы. Громкий металлический голос Виктора доходил до него как бы порывами, особенно когда оратор повышал тон, желая подчеркнуть важный вывод, определение свободы или какое-либо классическое изречение. Речь Виктора, бесспорно, отличалась красноречием и силой. Но она мало гармонировала с настроением собравшихся на площади мужчин и женщин: они пришли сюда как на празднество, им хотелось развлечься, потолкаться среди людей, и временами они переставали улавливать мысль оратора, потому что язык Виктора – благодаря южному акценту, который он ко всему еще подчеркивал, словно гордился им, как дворянским гербом, – сильно отличался от сочного диалекта жителей острова. Но вот комиссар подошел к концу своей речи: он обрушился на Вест-Индскую компанию и «белых начальников» с Гваделупы и объявил, что борьба еще не окончена, что необходимо сокрушить англичан, засевших в Бас-Тере, и что скоро он начнет решительное наступление, – оно принесет мир стране, навсегда освобожденной от рабства. Юг говорил ясно, взвешивая каждое слово и не злоупотребляя ораторскими приемами; собравшиеся уже встретили рукоплесканиями заключительную фразу комиссара Конвента, увенчанную выдержкой из Тацита, но в эту минуту де Лессег заметил, что какое-то судно вошло в гавань и направилось к ближайшему причалу. Впрочем, жалкий вид корабля не внушал никакой тревоги: то было ветхое двухмачтовое суденышко, потрепанное, облезлое и грязное, с парусами из кое-как сшитой мешковины; оно походило на призрачный корабль из рассказов о кораблекрушениях. Суденышко пристало к берегу, и в толпе тотчас же возникла суматоха: к помосту, где стоял комиссар Конвента, приближались люди с изуродованными руками и ушами, беззубые, хромые; кожа у них серебрилась от шелушащихся волдырей. Это были прокаженные с острова Дезирад, они пожелали принести присягу на верность Республике. Виктор Юг торжественно назвал их «больными гражданами», вручил им трехцветную перевязь и заверил, что вскоре посетит остров прокаженных, дабы узнать нужды больных и облегчить их страдания. После этого неожиданного происшествия, которое еще больше упрочило зарождавшуюся популярность комиссара Конвента, Виктор, провожаемый приветственными возгласами и рукоплесканиями, которые заставляли его несколько раз возвращаться на помост, удалился в свою канцелярию в сопровождении генералов и старших офицеров. В безоблачном небе внезапно появилось ядро, выпущенное вражеской батареей, оно пронеслось над толпой и, никому не причинив вреда, врезалось в воду бухты. Над городом все еще плавал запах тления. Однако к вечеру зацвели лимонные деревья. И это было Возрождением дерева после долгой Тризны Мрака.
XX
Необычайная преданность.
ГойяХотя Виктор Юг объявил о скором наступлении на Бас-Тер, он долго не решался начать его. Возможно, комиссара Конвента останавливал недостаток живой силы и боевых припасов; он боялся, что ополчение, набранное из цветных жителей острова, пока еще плохо обучено, и с явным нетерпением ожидал прибытия подкреплений из Франции, о чем он просил уже тогда, когда только началась осада Пуэнт-а-Питра. Прошло еще несколько недель, и временами вражеская артиллерия вновь вела яростный обстрел города. Однако после пережитых испытаний люди относились к этому как к преходящей неприятности и находили некоторое утешение в том, что пренебрежительно пожимали плечами, бранились или яростно потрясали кулаками над головой. Из предосторожности гильотину все еще держали в запертом на ключ помещении, она была полностью собрана, смазана маслом и терпеливо ожидала часа, когда господин Ане, бывший палач трибунала в Рошфоре – мулат с изысканными манерами, получивший воспитание в Париже, хороший скрипач, всегда носивший в карманах конфеты, которыми он любил угощать детей, – пустит в ход надежный механизм, придуманный неким торговцем клавикордами. Комиссар Конвента хорошо знал, как дорого обошлось Франции слишком поспешное применение грозной машины в занятых войсками Республики пограничных областях. Он вовсе не хотел, чтобы Гваделупа превратилась для него в своего рода маленькую Бельгию. К тому же не поступало никаких жалоб от жителей, приученных всем ходом нелегкой истории их острова безропотно подчиняться очередному властителю. Пока что Виктор Юг опирался на поддержку множества людей, освобожденных от рабства; они не переставали радоваться своим новым гражданским правам, но это ликование вскоре опять поставило перед ним проблему управления: убедившись, что уже нет больше хозяина, которому надо подчиняться, бывшие рабы всячески уклонялись от обработки полей. Прежде плодородные земли теперь густо поросли сорной травою, но у властей пока что рука не поднималась строго наказывать тех, кто под самыми патриотическими предлогами отказывался гнуть спину на пашне; борозды, некогда проложенные плугом, зарастали, и на полях буйно цвели вовсе бесполезные кустарники и бурьян, – ведь солнце щедро лило свет и тепло на все растения, не разбираясь в том, какие из них нужны людям… Тем временем в Пуэнт-а-Питр пришло судно «Байоннеза» с грузом оружия и боевых припасов; на нем прибыл также небольшой отряд пехотинцев, насчитывавший гораздо меньше штыков, чем просило командование экспедиционного корпуса. Конвент испытывал нужду в солдатах и не мог распылять силы, посылая крупные отряды для защиты далекой колонии. Эстебан, неожиданно приглашенный в кабинет Виктора Юга для получения новых корректур, заметил, что комиссар погружен в чтение газет, – он всегда ожидал их почти с таким же нетерпением, как официальные депеши: в парижской прессе его имя время от времени упоминалось. Перелистывая газеты, которые Виктор уже просмотрел, Эстебан с крайним изумлением узнал, что установлен праздник в честь Верховного существа; молодой человек уже и вовсе пришел в замешательство, когда прочел об осуждении безбожия: оно теперь рассматривалось как нечто безнравственное, а стало быть, присущее аристократам и противникам революции. Атеистов внезапно стали считать врагами Республики. Народ Франции признавал отныне учение о Верховном существе и бессмертие души. Неподкупный заявил, что если даже вера в существование бога и в бессмертие души – всего лишь плод фантазии, то эту фантазию следует считать самым прекрасным созданием человеческого разума. Отныне людей, не верящих в бога, именовали «жалкими уродами»… Эстебан так искренне расхохотался, что Виктор Юг, нахмурив брови, посмотрел на него поверх газетных страниц.