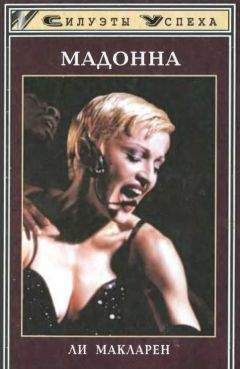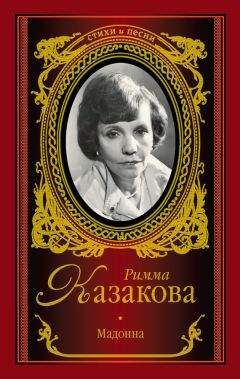Мария Глушко - Мадонна с пайковым хлебом
— Идите, папаша, который с нашивочкой, вполне заслужили! А ты, каланча, куда прешь? Чего пузо выставила, предъяви справку, может, у тебя там подушка!
Как видно, парень был навеселе, но порядка в самом деле стало больше, продвигаться стали быстрее, очередь молчала сконфуженно и благодарно.
— Граждане, а также гражданочки и гражданята, не задерживайте друг друга, готовьте карточки заранее! — весело орал мордатый и каждую гражданочку, получившую халву, приобняв, отжимал от прилавка. — Отходи, маманя, не задерживай народ…
Продавщица косила на него злым глазом, ворчала:
— Шел бы ты отсюда, не орал бы тут!
Мордатый смеялся и показывал зажатую в кулаке карточку:
— Полное право имею отовариться…
Нина стояла, держа Витюшку «дыбки», привалив его головку к своему плечу, и чувствовала, как хлюпает вода в ботиках. Ботики совсем развалились, особенно правый, Нина уже и сшивала их и скручивала проволокой, ожидая, когда можно будет выбросить.
Весна пришла быстрая, дружная, осел и стал таять снег, воздух сделался мягким и влажным, ручьи заливали обочины и все бежали в одну сторону — к Волге. Ипполитовна говорила, что если б и ночью так, то снег сошел бы за неделю, но ночами еще крепко подмораживало, застывали мутные гребни на талой воде, образуя кочки, рыхлый снег покрывался жесткой коркой льда. Раньше Нина очень любила весну, а теперь для нее не существовало ни времени года, ни красот природы, она не замечала ни вспухших почек на деревьях, ни горьковато-пресного запаха влажной коры, ей важно было другое: тепло или холодно на улице, сухо или сыро…
Наконец подошла и ее очередь, она зубамй стянула варежку, подала сшитые ниткой карточки, продавщица вырезала на них хлебные талоны, а на детской — еще и талон на сахар, взвесила хлеб и халву. Перехватив другой рукой сына, Нина кинула в кошелку покупки, туда же сунула и карточки, мордатый и ее приобнял, отодвинул от прилавка:
— Мамани, пропустите с ребенком…
— Отойди, окаянный! — опять рыкнула продавщица, а Нина подумала: зачем она на него кричит, он же для всех старается…
Дома она стащила мокрые ботики и чулки, развесила возле духовки, надела полосатые носки, которые оставила ей Евгения Ивановна. Вытащила хлеб, халву, понюхала и даже лизнула замасленную бумагу, потом не удержалась, отщипнула, крошку, положила в рот… Пахучая сладость защекотала нёбо, больно заныло в скулах, она поскорее спрятала халву в шкаф. На эту халву она надеялась выменять для Витюшки сахар.
И тут вспомнила про карточки — в кошелке их не было. Но она же хорошо помнит, что вслед за хлебом и халвой кинула их- туда. Опять пошарила в глубоком камышовом нутре и даже перевернула кошелку. высыпались крошки, она тут же подобрала их и съела. Карточек не было.
Она еще не успела испугаться, поискала в варежках, зачем-то вывернула их, вытряхнула сумочку, хотя знала, что там их быть не может. Она хорошо помнила, что кинула карточки в кошелку.
Перетряхнула плед и одеяло, в которые был завернут сын, даже в пеленках искала… Тупой испуг ударил в ноги, она села, пытаясь сообразить, где же их искать. Ведь где-то они есть, только надо хорошо по~ искать. Их не может не быть, без них нельзя, без них лучше у" ж сразу умереть…
Эти мысли были пока несерьезными, она словно заговаривала судьбу, чтобы судьба, попугав ее, сразу и улыбнулась: на тебе твои карточки! Нина так ясно видела их сейчас — зеленая «взрослая» и розовая «детская», прошитые в середине крестом черных ниток, — что они непременно должны были найтись, и она снова в который раз трясла кошелку, сумочку, варежки.
Их нигде не было.
Зачем-то она стащила со стола скатерть, сложила ее, стала ходить из угла в угол. Протерла слезящееся окно, там был залитый солнцем день, черные птицы кружили в небе, она постучала пальцем по стеклу…
Господи, что я делаю, зачем?
Вдруг оделась, сунула ноги в мокрые ботики и в одних носках, без чулок побежала к ларьку. Конечно, я сунула их мимо кошелки, они упали, кто-нибудь поднял их, отдал продавщице. Они не могут не найтись.
У ларька никого не было, козырек был опущен, продавщица навешивала на дверь замок.
— Я уронила здесь карточки, — задыхаясь, сказала Нина, — вам не передавали?
Продавщица — ее все звали Маней — осмотрела ее с ног до головы и отвернулась к замку.
— Как же, передадут, жди, — устало сказала она.
Нина стояла, все еще на что-то надёясь.
— Значит, не передавали?
— Не передавали, — уже грубо ответила Маня.
Опустив голову и осторожно ступая, Нина всматривалась в темный истоптанный снег. Маня издали смотрела на нее.
— Да не ищи, не уронила ты их. Скорее всего, Ванька-писарь вытащил.
— Какой писарь?
— А такой. Мордоворот тот, который очередь наблюдал. Первый по Саратову вор. Теперь поминай как звали…
Нина сглотнула горячую слюну. В глазах у нее задрожало, она хотела заплакать, но не плакалось. Теперь она поверила, что карточек нет.
— Что же мне делать? — спросила она. Просто так, у самой себя.
Маня вздохнула.
— Уж не знаю. Заяви в милицию, только зря все это, на него этих заявлений, поди-ка, пруд пруди… Пока то, сё, месяц кончится, новые получишь.
Нина медленно побрела домой.
Что теперь делать? «То, сё, месяц кончится», а как же прожить этот месяц?
Перед ней встало лицо того мордатого с белыми, как у сумасшедшего, глазами. Как он мог?.. Он видел, что я с ребенком. Будь он проклят, навсегда, на всю жизнь!
Она вдруг смертельно захотела спать, качаясь, добралась к дому, вошла, стряхнула с ног ботики и повалилась на кровать в ватнике и платке. Спать, спать. Вот бы и не просыпаться.
Ее разбудил крик ребенка, она слышала его еще во сне, но не могла разлепить ресницы и побороть одурь. Поднялась, вялая, разбитая, — поменяла пеленку, нагрела молоко, сунула ему рожок и легла рядом.
Как жить теперь, как жить? И надо ли жить, раз меня все забыли? Вот только что будет с ним? Он вырастет в детдоме и никогда никому не скажет «мама». Даже если его разыщет Виктор, все равно никому он не скажет «мама». И в том будущем «послевойны», о котором она ничего еще не знала, матери за руку поведут своих детей в школу, а чья рука потянется к нему? И что скажут ему, если он — спросит: «Где моя мама?» Ему не дано будет испытать ту оправданную боль, которую испытают другие, услышав: «Твоя мать погибла на войне». Про нее скажут: «Умерла в войну». А это не одно и то же. Умерла в войну — значит не выстояла, струсила. Скажут, была такая мадонна с пайковым хлебом, а потом у нее не стало и хлеба. Украли. Тот мордатый, выходит, тоже упал ниже предела. И я упала. Может, и мне за то бревно кто-то желал смерти, а судьба смилостивилась и рассудила по справедливости: я украла и у меня украли. Вот только сын-то при чем?
Она поднялась, достала из буфета хлеб, два четырехсотграммовых куска, черный и белый. Это был, конечно же, завтрашний хлеб. Она рассчитала: если не есть свой паек, его тоже можно обменять на молоко. И халву можно обменять. Но если я ничего не съем, я упаду.
Она отделила от своей пайки половину, съёла, запив кипятком. Потом опять напекла из оставшихся отрубей лепешек и съела. Пересчитала деньги. На все это можно было продержаться самое большее три дня.
37
Всю ночь ребенок кричал, сучил ножками, Нина поила его чуть подслащенной водой — у нее оставалась ложка сахара, — он жадно сосал, рвал соску деснами, затихал ненадолго и снова начинал кричать.
Несколько раз Ипполитовна бегала по ту сторону моста, к татарке с козой, просила продать молока за деньги, хозяйка один раз налила в банку, сказала:
— Бери за так, деньги мне не нужны, что за них купишь? А больше не приходи, у меня своих видала сколько? — показала на кровать, на которой чернели головки детей.
Она тогда развела это молоко пожиже, чтобы хватило на сутки, но сын не наедался, только часто мочил пеленки, она не успевала полоскать.
Как-то, прихватив последние деньги, Нина оставила Витюшку с Ипполитовной, подалась на крытый рынок, там стояли пустые прилавки, только в углу продавали мерзлую картошку, к ней тянулась очередь. А молока не было. Нина собиралась уже возвращаться, но увидела, как из проверочной вышел старик с бидоном, в белом переднике и нарукавниках, за ним цепочкой бежали люди, сцепившись руками, и Нина побежала. Старик объявил цену — сорок рублей литр — и предупредил, что всем молока не хватит, в бидоне всего восемь литров. Нина подсчитала стоявших впереди и поняла, что ей молока не достанется. Она оставила очередь, подошла к старику, попросила:
— Продайте мне поллитра, у меня ребенок голодает…
Женщины из очереди набросились на нее, закричали, стали отталкивать.
— А у нас не дети?! У нас щенята, что ли?
— Не давать ей, не давать!
Нина заплакала: