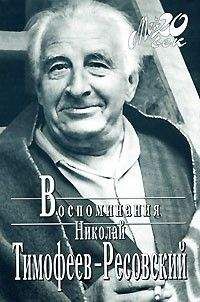Я — особо опасный преступник - Тимофеев Лев
Она. Что толку — исследовал, додумал, сказал… Раньше ты мог высказаться в газете — тебя читали, обсуждали. Пусть там все было куце, вот такая вот правдочка, но она до всех доходила, всем была доступна и всем нужна… И всегда была надежда, что через год можно будет сказать еще чуточку побольше… Но вот ты все высказал сразу. Вот твоя большая правда. (Включает приемник. Мощный звук глушилки… Кричит.) Слушай, слушай! Может быть, это читают твою книгу, твою правду…
Он (выключает). "Чепуха… Слово нельзя заглушить. Его хоть в могилу спрячь, оно тростниковой дудочкой заиграет. (Играет на гитаре, поет.)
Она. Да я знаю, что не умрет… Жить-то как?.. Я заварила чай с травкой… Как ты это делаешь? Когда ты поешь или танцуешь, я готова простить все твое долдонство. Как жалко, что Дарья не в тебя — будет такая же, как я, — неуклюжая. Может, Танюша вырастет пластичной: она все поет и танцует.
Он. Пожалуйста, теперь немного подвигаемся… Потанцуем… Нет, кисти посвободнее, локти поближе, вообще руки освободи… ноги чуть согнуты… это единое движение… вот так… Какая ночь! Ты — как Золушка на балу.
Она. А может быть, все-таки продать Брокгауза? Или что-нибудь заложить в ломбард? Что у нас осталось такого? Мою шубу? Ведь это ничего, мы ее выкупим, я заработаю… Я закончу игрушки — тут как раз рублей на двести…
Он. Ах, как же я танцевал в тот вечер, когда мы с тобой познакомились и когда я отбил тебя у Бабьегородского… Это было какое-то молодежное кафе, да?
Она. Ужас! На тебе была какая-то красная рубаха, и тебе казалось, что ты ослепителен.
Он. Я был бешено влюблен. Никогда больше я так не танцевал — ни до, ни после. Я вложил в этот танец всю свою страсть к тебе.
Она. Ну, ну, ну… понесло, понесло… Когда ты танцевал, мы были едва знакомы. Ты же за Анькой приударял… Смотри-ка, все те же люди, кто тогда был? Регина, Бабьегородский, Рыжий, Севочка, Анька…
Он. Точно, точно. Это был тот вечер, когда ты съездила по роже бедному Севочке. Я до сих пор помню его красную физиономию, испуганного Петечку… у Регины, по-моему, сделалась истерика, а Рыжий хохотал во все горло… Ты говоришь, кто еще там был?
Она. Не делай вид… Анька… Ах, какие у нее были глаза! Вот такие вот огромные серые глаза… Только фиг она на тебя внимания обращала. Она уже тогда нацелилась на Петечку — знала, на какую лошадку ставить.
Он. А ты?
Она. Я не понимаю, ты что, хочешь напоить меня, что ли?
Он. Ах, миленькая, мы с тобой так редко сидим. Ты так редко смотришь на меня добрыми глазами.
Она. Ты здесь не при чем. Покупай почаще хороший коньяк.
Он. А ты… ты на ту лошадку поставила?
Она. Из нас двоих лошадка — я. Это ты на меня поставил, и я повезла… Ты видишь, сколько я везу на себе? Я еще не старая кляча?
Он. Ты удивительно хороша — особенно, когда улыбаешься. Улыбка совершенно преображает твое лицо… Ты — мадам Улыбка… Выпьем, и ты мне улыбнешься… Вообще напьемся, как в тот вечер, когда ты бросила Бабьегородского.
Она. Да нет же… как-то все у тебя… его бросила, тебя подобрала. Это тебе все просто. Стала бы я жить с тобой, если бы так легко от одного мужика к другому… Только ты бы меня и видел. Нет, я задолго ушла.
Он. Хочешь, я сам скажу, почему ты его бросила?
Она. Тебя никто не просит.
Он. Если бы осталась, ты бы просто спилась.
Она. Перестань!
Он. Что такое твой Петечка? Комсомольский поэт, комсомольский драматург…
Она. Ну что за бабские выходки!
Он. Нет, нет ты послушай… Он, конечно, добрый парень, но… какой он писатель? Так, зарабатывает человек, чем может.
Она. Высказался? Ты злой и завистливый. Как ты можешь? Ты, ты… у нас с тобой даже выпить не на что… Зато сейчас я бы ездила на зеленом «Мерседесе», как Анька ездит.
Он. Сейчас бы ты ездила на инвалидной коляске. Ты бы давно уже спилась с тоски. И Петечку бы утопила. Вы бы оба спились — и ты, и он. Петечка слабый, а ты баба въедливая, сильная… Да, да, не маши руками, сильная… К тому же, он любил тебя без памяти. Он совершенно раскис. Он был в отчаянии, у него тряслись руки. Он совсем не мог работать: ты его задавила. Что бы он ни написал, ты смеялась над ним, ты на все говорила, что это полное говно, что он сам — полное говно. Говорила или нет? И делала такое вот презрительное лицо… Собралась парочка! Тебя тошнило от вранья, ты чуть не спилась от этого, а он, горемыка, органически не способен говорить правду, да он и не знает, что такое правда. И тоже чуть не спился от отчаяния… Нет, милая, ты не уважала Петечку, и он, бедненький, перестал уважать себя. Еще бы немного, и на обоих можно бы ставить крест… А теперь? Театральная афиша пестрит петиным именем. Своим враньем он заполнил все подмостки страны. Освободился… Сначала купил дачу, потом «Мерседес», теперь вообще может позволить себе менять жен, менять машины!.. Так что скажи спасибо, это я вас обоих спас.
Она. Ты спас! Постыдился бы говорить. Оглянись вокруг: это спасение?
Он. Спас, спас… Что бы ты ни говорила — спас.
Она. Сегодня нужна инвалидная коляска — сегодня ты меня спаиваешь
Он. Ах, подруга, если бы ты умела почаще расслабиться, это было бы совсем неплохо… Выпьем?
Она. Спаситель нашелся… Ты-то тут при чем? Если хочешь знать, я тебя в тот вечер вообще не заметила — так, танцевал там какой-то хмырь, кривлялся — и все… Я влюбилась вовсе не в тебя…
Он. Ты влюбилась в меня.
Она. Да ничего подобного!
Он. Ты влюбилась в меня и той же ночью стала моей женой.
Она. Я влюбилась не в тебя, а в твою Регину. Какая баба! Я в нашем болоте никогда таких не видела: красивая, умная, свободная. Главное — свободная. Это удивительно: она образует вокруг себя какое-то поле свободы. Я потом и здесь уже много раз проверяла — точно, она всегда на меня так действовала: она приходила, садилась вот здесь в кресло и улыбалась… и все. Ты видишь ее и понимаешь: вот человек, который может все, и чувствуешь, что рядом с ней ты тоже все можешь… Дурак, почему ты на ней не женился?.. И тогда в кафе я вдруг почувствовала, что все могу. Все!
Он. Тебе холодно?
Она. Оставь… А ты… что же ты… ты был где-то около Регины.
Он. И все-таки ты уехала со мной.
Она. Уж не вспоминал бы этот кошмар. Ты напоил меня и увез, и привез сюда: в той комнате лежал твой парализованный папа, за стеной храпела мама… Очень нежные воспоминания…
Он. Но ведь были же у нас и хорошие времена, ты не можешь отрицать.
Она. Да, были, были… Чего теперь вспоминать.
Он. Особенность твоего обиженного сознания — помнить только плохое.
Она. Опять публицистика.
Он. Прости меня… Я в последнее время очень чувствую свою вину перед тобой… Я тебя очень люблю… Мне очень повезло в жизни…
Она. Да, конечно, я баба неплохая.
Он. Нет, неплохая — это ничего не значит… Я очень хочу, чтобы ты улыбалась, чтобы у тебя было все хорошо в жизни, но я не знаю… так получилось… Когда Петька впервые прочитал мою книгу, ты помнишь, что он сказал? «Ну хорошо, ты — самоубийца, это я могу понять… но что же ты, гад, о жене и детях не думаешь?» Я тогда все это мимо пропустил… Я никогда не сомневался, что я прав — ни когда задумал книгу, ни когда писал, ни когда решился публиковать — прав! И теперь уверен: прав!
Она. Ты везде и всюду прав, ты перед всеми прав… ты только здесь, перед нами не прав… Смотри-ка, совсем рассвело… Задерни шторы — мне не хочется, чтобы начинался новый день, ну его…
Он. Но мне только одно очень горько, ты меня не любишь. Хотя я понимаю.
Она. Ну что ты, миленький, как ты можешь так говорить… Я прожила с тобой двенадцать лет, родила двух дочерей… Как ты можешь так говорить? Только мне трудно представить, как это я буду одна здесь ходить… от окна к столу, от стола на кухню… а тебя нигде не будет… сколько — семь лет? двенадцать? всю жизнь?
Он. А ты правда ко мне хорошо относишься?
Она. А куда же теперь деваться?
Он. Какая же ты женственная…
Она. Как я постарела за последние два года — ужас! А хотя что же, тридцать восемь… кошмар!