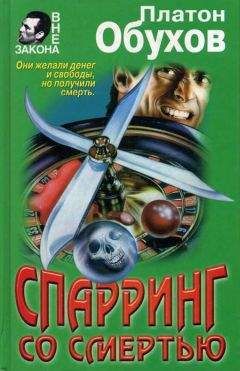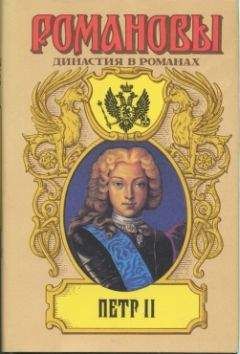Петр Проскурин - Отречение
— Ничего особенного, Иван Христофорович, только одно, — ответил Петя; впервые столкнувшись с предельной откровенностью Обухова, он не понимал до конца, чем она вызвана. — Без энергии невозможно движение, источники энергии истощаются, другого пути нет, и вы это лучше других знаете…
— — Знаю, — подтвердил Обухов, — к сожалению, знаю. Любой источник энергии связан с ущербом для окружающей среды, я это тоже слишком хорошо знаю, если так будет продолжаться, прочность экологических систем просто не выдержит. Вот и получается, Петр Тихонович, парадокс: за жизнь, за человека нужно бороться с самим человеком… Впрочем, заговорил ведь с вами совсем по другому поводу. Выслушайте серьезно, не примите за старческое чудачество…
— Иван Христофорович…
— Ладно-ладно, — остановил его Обухов, — я же знаю, как вы меня зовете. Шестьдесят два есть шестьдесят два, все законно. Дело не во мне, от каждого из нас зависит исход. Что поделаешь, так случилось… стать на сторону добра, поддерживать разумное в жизни — теперь уже подвиг. Я одного хочу, чтобы рядом со мной люди делали выбор осознанно, не ссылаясь потом на незнание… И у вас еще есть выбор…
Проводив последнюю уходящую на заданный маршрут пару, Петя продолжал раздумывать над разговором с Обуховым, решив тем временем получше познакомиться с оставленным на его попечение солидным хозяйством; обойдя палатки, он посидел у стола, сбитого из неструганных березовых жердей. Слова Обухова не шли у него из головы. Между тем тетя Катя развила в опустевшем лагере бурную деятельность; тетя Катя, которую все без исключения звали в экспедиции именно так и не иначе, была никакая еще не тетя, а вполне моложавая женщина, всего лишь лет на десять старше самого Пети, сухощавая, энергичная, безраздельно отдающая себя работе. Она числилась заместителем Обухова по хозяйственной части, прекрасно справлялась с рацией, виртуозно и бесперебойно выходила в эфир, занимала также должность повара, исправно и умело оберегала своих подопечных от заболеваний, оказывала в случае необходимости срочную медицинскую помощь, заведовала экспедиционной аптечкой. У тети Кати было миловидное лицо, обрамленное коротко стриженной русой челкой, пухлые щеки с ямочками и небольшие яркие карие глаза. Тетя Катя всех в экспедиции, кроме самого Обухова, называла только по имени и только на «ты» и лишь самого академика величала, тщательно выговаривая каждый звук, Иваном Христофоровичем; поговаривали, что тетя Катя предана академику собачьей нерассуждающей преданностью и ездит за ним во все экспедиции.
Между тем день разгорался; лагерь был разбит на открытом месте, и все-таки таежный гнус начинал донимать; поеживаясь от потянувшего с реки промозглого ветерка, Петя сходил в палатку и нацепил на голову накомарник; после обеда (пшенной каши с мясом) тетя Катя, улыбаясь всеми своими ямочками, выдала ему тюбик с неприятно пахнущей мазью, посоветовала тщательно натираться, прежде чем идти в тайгу, и попросила сделать запас сушняка. Кивнув, Петя взял топор и отправился, на заготовки; сушняка было много набито по берегам речки на каменистых отмелях; в распадках сопок, заросших густым ельником, тоже хватало валежника. Охапку за охапкой Петя таскал топливо на стоянку, к большой палатке, к навесу, под которым была устроена своеобразная кухня с плитой, сложенной из дикого камня. Скоро ему стало жарко; сбросив куртку и раздевшись до пояса, он с наслаждением вымылся пронзительно холодной речной водой; комары и таежный гнус остервенело набросились на него, и он поспешил натянуть на себя одежду и набросить на голову накомарник. От непривычной работы в плечах ломило, ладони саднило. Необозримые безлюдные пространства вокруг все больше захватывали его: бесчисленные, уходившие к северу, все выше и выше, к самому небу сопки с их каменными то желтоватыми, то розовыми осыпями-проплешинами, с их распадками и отвесными обрывами, с их у самого горизонта, в немыслимой дали, ослепительно бело горевшими под солнцем остатками ледников, почти полностью исчезавших к концу лета и дававших начало бесчисленным таежным ручьям и речушкам. В другую же сторону, к югу и западу, все понижаясь и наконец сливаясь с горизонтом, уходили разливы тайги, испещренные рукавами рек; над всеми этими немереными пространствами в ослепительно чистом, хрустально-синем небе сияло наполненное тяжелым золотом солнце. Взобравшись на причудливый каменный вырост, нависший над рекой и открытый любому, даже самому легкому ветерку, вслушиваясь в голос реки, с грохотом катившейся из поднебесья, бившейся и тершейся о берега, без устали ворочавшей валуны и гальку, Петя почувствовал себя еле различимой, необходимой нотой в общем, слитном и согласном звучании земли и неба. Близился вечер, и солнце висело совсем низко над сопками, размывая и растворяя их вершины в ширившемся, обнимавшем все большее пространство зареве неестественно бледного огня; Петя, задержав дыхание, наблюдал за невиданной картиной, начиная уже уставать от переизбытка красок, от своей неспособности сразу вместить, понять и принять весь этот сказочно прекрасный мир гармонии, согласия и тишины.
Петя прислушался, он отчетливо различил странный, долгий, как бы хрустальный звон, словно сквозь все видимое пространство сопок и неба прошла извилистая трещина. Петя недоуменно оглянулся. Солнце уже ушло, и теперь веер малиновых с золотом лучей напряженно бил из-за потемневших, резких контуров далеких сопок; был тот зыбкий момент противостояния дня и ночи, который всегда отзывается в живом существе смутным ожиданием; кажется, стоит всего лишь шевельнуться — и что-то непоправимо расколет, разобьет эту тишину и согласие. И точно, в этот самый момент через тайгу и небо опять пробежала хрустальная трещина; выждав, Петя спустился к палаткам, и тетя Катя тотчас позвала его ужинать, пока все было спокойно; Петя вопросительно взглянул в ее всегда приветливое ясное лицо и уловил в нем какую-то задумчивость и тревогу.
— Я тут, пока ты сушняк таскал, получше осмотрелась, — сказала тетя Катя в ответ на его взгляд. — Там, вверху, — просторная площадка, камень… там бы надо было лагерь ставить…
— А что такое? — спросил Петя, прихлебывая чай, решив не высказывать вслух своей неясной тревоги. — Низковато?
— Низковато, да и вообще не нравится мне что-то, — сказала тетя Катя, тряхнув головой, как бы поясняя тем самым, что ей не нравится вообще все вокруг; ямочки ее стали заметнее. — Давит какая-то тяжесть, давление, что ли, меняется, — легонько вздохнула тетя Катя, незаметно успевая при этом убирать со стола, подливать Пете свежую заварку, придвигать ему нарезанный, остро пахнущий сыр из дополнительных запасов. — Ешь, ешь, не стесняйся, воздух свежий, а ты мужик вон какой справный, в оглоблю вымахал. Петр Тихонович, ты заметил, к вечеру потеплело, духота опустилась, гнус вон что выделывает… Ты полог получше подоткни… а то кровопийцы спать не дадут. Да, Петр Тихонович, — опять неожиданно спросила она, вновь называя его по имени-отчеству и тем самым как бы возводя в более высокий ранг, — мы как, ночевать вместе будем?