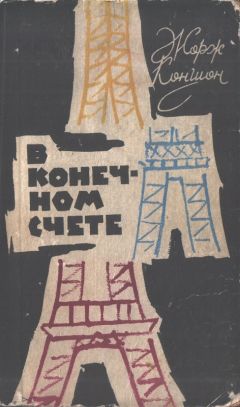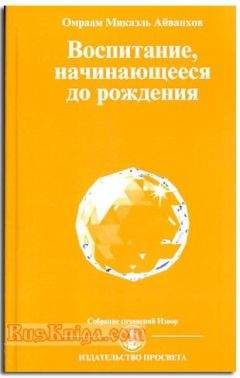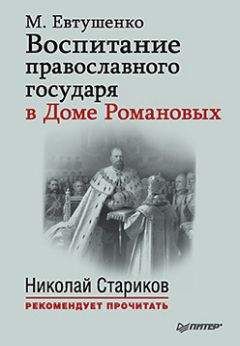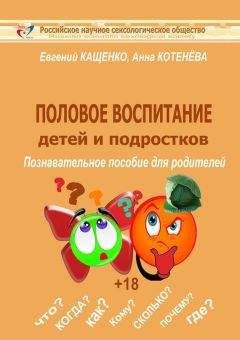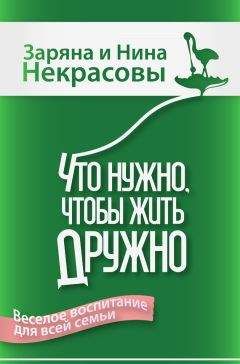Жорж Коншон - В конечном счете
Сначала он не понял. Переспросил. Она опять назвалась и прибавила очень тихо, очень быстро:
— Я звоню вам по поводу сегодняшнего заседания.
— Я знаю, — сказал он, — я знаю! Боже мой, по какому же еще поводу вы можете звонить?
— Я очень сожалею о том, что произошло.
— Конечно, — сказал он. — Я вам верю, я вам искренне верю. Вполне естественно, что вы сожалеете. А теперь спокойно ложитесь спать и больше не думайте об этом.
— Я не могу, — сказала она. — Я не могу. Я не думала, что…
— Чего вы не думали? — спросил Марк. — Что из этого выйдет такая история? Не начинайте лгать. Вы это прекрасно знали!
— Да, я знала. Но я не это хотела…
— Наплевать мне, что вы хотели. По-моему, нам не о чем разговаривать.
— Одну минуту! — взмолилась она. — Прошу вас, не вешайте трубку!
У нее был действительно умоляющий голос, и Марк это заметил. Он, со своей стороны, не испытывал ни малейшего желания повесить трубку.
— Ладно, — сказал он. — Зачем вы мне позволили? На вас что-то нашло? Или вы хотите узнать, как себя чувствует жертва? Если дело в этом, — продолжал он после паузы, — то вы можете быть совершенно спокойны. Жертва чувствует себя хорошо. Можно надеяться, что она оправится.
— Нет, — сказала она и, помолчав, проронила: — Я хотела… Вы правы, нам с вами, по-видимому, не о чем разговаривать.
— Кажется, вы намеревались объяснить мне, как вы сожалеете о случившемся.
— Я это уже сделала, — сказала она. — Спокойной ночи, господин Этьен.
— Подождите! Я хочу знать, о чем именно вы сожалеете. О том, что произошло, или о том, что вы…
— Я не лгала, — сказала она.
— Это верно. Я забыл, что они обставили дело так, чтобы вам даже не пришлось лгать.
— Я не лгала, — повторила она. — Это была не ложь, а нечто большее.
— Более страшное?
Она не ответила.
— Не глупите, — сказал он. — Говоря серьезно, неужели вы думаете, что, если бы вы не солгали, что-нибудь изменилось бы?
— Нет.
— Так в чем же дело? Послушайте, — сказал он, — если вы придаете какое-нибудь значение таким вещам, я вас охотно прощаю. Вы были бессильны что-нибудь изменить. И вы и я были бессильны что-нибудь изменить.
— Я знаю, — сказала она. — Но это мне безразлично.
— Я думал, что вам хотелось услышать это от меня.
— Конечно.
— Я думал, что для этого вы мне и позвонили.
— Нет, — сказала она. — Я сама не знаю, зачем я вам позвонила. Должно быть, на меня действительно что-то нашло.
— Я, конечно, шутил, — сказал он. — Алло! Алло! Мне нужно вас видеть. Где вы находитесь?
— Нет! Я не хочу!
— Я приеду через минуту.
— Нет, нет!
— Послушайте, — сказал он, — вы передо мной виноваты. Надеюсь, вы согласитесь с этим? Вы мне сейчас же скажете, где я могу…
Она повесила трубку.
Марк посмотрел на часы. Было тридцать пять минут десятого.
Он позвонил начальнику личного стола, приветливому, чрезвычайно робкому человеку, который жил со своей матерью где-то в Отей. Он был очень предан Марку. Как-то раз он пустился с ним в откровенность, и Марк до сих пор не мог понять, как у него хватило на это смелости. Впрочем, сперва он и сам, казалось, был изумлен и слегка испуган тем, что позволил себе такую фамильярность, но потом, видимо, у него отлегло от сердца, и он заговорил с очаровательной непринужденностью. Ему помешала жениться война. Правда, в начале войны, когда ему было сорок лет, он познакомился в Эльзасе с одной женщиной, которую полюбил. Она была эльзаска из очень хорошей семьи. Он впервые был вдали от матери и впервые чувствовал себя более или менее свободным. Но потом он пять лет провел в плену. «Что вы хотите? Она наверняка вышла замуж. Или умерла». Теперь он был уже слишком стар. А тут еще мать с ее деспотическим характером — он привел несколько примеров ее тирании. Все это было так грустно…
К телефону долго никто не подходил.
Наконец послышался сонный голос:
— Алло.
— Алло, — сказал Марк, — говорит Этьен.
— О!.. Добрый вечер, господин генеральный секретарь.
— Я уже не генеральный секретарь, — сказал Марк. — Я думал, вы в курсе дела.
— Нет, я не знал. Я ушел из банка очень рано. Но мне очень жаль. Что касается этой истории… Все это, как говорится, не нашего ума дело, высокая политика, в которую меня не посвящают. Мне очень жаль.
— Спасибо, — сказал Марк. — Вот уже четыре часа, как вы не находитесь у меня в подчинении, но я думаю, вы мне все же окажете одну услугу.
— От всей души, господин Этьен. Я окажу ее вам, как другу, если позволите, в знак моего глубокого уважения.
— Вы можете дать мне адрес мадемуазель Ламбер?
— Нет. То есть, я хочу сказать, не сию минуту. У меня здесь нет адресов. Я не держу личные дела дома. Но я вам позвоню, как только…
— Мне нужен этот адрес сейчас.
— Я могу дать вам его завтра. Обещаю вам прийти в банк как можно раньше, с самого утра. Можно вам позвонить в восемь часов?
— Нет.
— В половине восьмого?
— Послушайте, Эмери, — сказал Марк. — Я не обращаюсь к вам по служебному делу, а прошу об одолжении. Оденьтесь, сядьте в машину и поезжайте в банк.
— Нет. Это невозможно.
— Почему?
— Я не могу сейчас выйти. В данный момент… Нет, я не могу.
— А если бы я еще был генеральным секретарем и дал вам такое распоряжение, вы и тогда бы этого не сделали?
— Мне трудно ответить на такой вопрос, господин Этьен. Я действительно не могу выйти. Маме нездоровится. Вы должны понять.
— Я понимаю, — сказал Марк. — До свидания.
— До свидания, господин генеральный секретарь.
Таким образом, ему оставалось только обратиться к Морнану — через это надо было пройти. Он помнил, что после приема, который устроил Драпье, Филипп предложил Кристине Ламбер отвезти ее домой. Он очень увивался вокруг нее, но, по-видимому, без особого успеха. Как бы то ни было, Марк прекрасно помнил, что они ушли вместе.
Итак, ему пришлось обратиться к Морнану; это ему не очень-то улыбалось, но другого выхода не было.
К телефону подошла Мари-Лор. Мари-Лор, какой он ее еще не знал, — надутая и язвительная. Она сразу начала пыжиться:
— Это вы? Ну, знаете! Вы?
Он попросил ее позвать к телефону Филиппа. Она нашла это «возмутительным».
— Вы при всех устраиваете ему сцену в «Ламете» и после этого к нему еще лезете. Вы поносите его на чем свет стоит, а потом к нему же и пристаете! Бог видит, что я не привыкла думать об этих ужасах, но я себя спрашиваю, уж нет ли у вас какого-то комплекса по отношению к нему или чего-нибудь в этом роде.
— Не задавайте себе столько вопросов, — сказал Марк. — Вы слишком красивы и изысканны, чтобы думать об этих ужасах.
— Забавно, иногда вам почти удается быть любезным.
— Боюсь, что да, — сказал Марк. — А теперь, пожалуйста, скажите ему, что его дружище хочет с ним говорить.
— Я думаю, что у него нет ни малейшего желания вас слушать.
— Разумеется, и даже больше того: ему это наверняка будет очень неприятно.
— Алло, — сказал Филипп. — Ты напрасно так думаешь. Я тебя слушаю. Мне безразлично, что ты скажешь, но я тебя слушаю. В чем дело?
— В тот вечер, когда у Драпье был прием, ты провожал домой Кристину Ламбер?
— Да. Ну и что?
— Ты помнишь ее адрес?
— Да. Улица… А почему ты спрашиваешь? Зачем тебе ее адрес?
— Какая улица?
— Я лучше оставлю это при себе. Ведь я ненадежный человек, не так ли? А есть сколько угодно надежных людей, которые с удовольствием дадут тебе справку. Всякий раз, когда ты нуждался во мне, я был к твоим услугам, но теперь — все. С этим покончено. И я даже рад случаю высказать тебе все, что я о тебе думаю. Я хотел сделать это еще в «Ламете». Ты знаешь, что я о тебе думаю? Нет? Хочешь, я тебе скажу?
— Валяй, — сказал Марк.
— Primo, я всегда считал тебя бездарью. Когда ты приехал из своего Немура, я сразу понял, что тебе грош цена. Терпеть не могу бездарных педантов! И все в Политехнической школе поняли, что ты типичная бездарь, жалкий зубрила, вообразивший о себе бог знает что. Правда, в тебе было что-то такое, что прельщало дураков, и еще ты обладал способностью, которую я за тобой всегда знал, тоже, быть может, характерной для бездарности, — вылезать, протискиваться вперед с какой-то наивной убежденностью, что ты имеешь на это право. Я даже думаю (извини меня, я только хочу поставить все точки над «i»), что ты никогда не останавливался перед тем, чтобы погубить товарища. И это-то позволило тебе в течение долгого времени сохранять свои иллюзии. Я думаю, ты понимаешь, на что я намекаю?
— Не совсем, — сказал Марк, — но все равно продолжай.
— Secundo, — сказал Филипп. — Ты совершенно лишен чувства юмора. Ты из тех людей, которые все принимают всерьез. Ты всегда был таким. Когда тебе невероятно повезло и тебя назначили генеральным секретарем, можно было по-разному к этому отнестись. Ты, не задумываясь, повел себя так, что стал смешон в глазах всех, и тебя все невзлюбили. Если бы ты был просто умный и удачливый человек, который сделал блестящую карьеру, против тебя никто ничего не имел бы, но ты сразу стал генеральным секретарем и принял это как должное. В сущности, ты всегда считал, что так оно и должно быть. Когда в первый раз ты появился в обществе, помнится у Мабори, в своем слишком коротком смокинге, все посмеивались над тобой. Мне сейчас напомнила Мари-Лор, что как раз в этот вечер Аньес Мабори и Мартина Дандело прозвали тебя цаплей. Не из-за смокинга — это достаточно простые и достаточно умные люди, чтобы простить человеку слишком короткий смокинг, нет, они дали тебе это прозвище, потому что ты так держался. И уже тогда я подумал, что ты слишком вульгарен и именно поэтому когда-нибудь непременно сорвешься. Даже поверить трудно, до чего важно, как человек воспитывался с детства. Будь ты получше воспитан, ты был бы безупречен. Когда там, на берегу озера, ты говорил все эти прекрасные слова, мне казалось, что ты в самом деле замечательный человек, но что-то мешало мне считать тебя действительно безупречным. Было в тебе что-то такое… ты понимаешь…