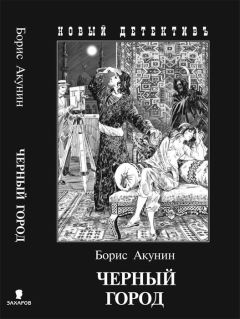Мариам Юзефовская - Разлад
Илья Ильич молча слушал беспощадные, безжалостные, как удары хлыстом, слова. Следил глазами за тем, как сын мечется, бегает по комнате. Когда попадал в конус света, на его лице становилась видна светящаяся белобрысая щетинка: «Вот и вырос парень. Пришел мой черед ответ держать. Казалось, еще вчера сам эдаким козленком так и норовил боднуть тестя. Тот твердел лицом. Супил брови. Отделывался абзацами из передовиц. И все наставлял, бывало: «Ты поостерегся бы! Язык – твой враг». Первое время удивлялся: «Как же можно дела вершить, если с такой оглядкой живете?» Тесть мрачнел, поджимал губы: «Сразу видно – жареный петух тебя не клевал. Дисциплина для тебя – пустой звук». Ну и что изменилось с той поры? Обтесали тебя, как то бревно, чтоб нигде ни сучка ни задоринки не было. Но воз-то и поныне там. Только еще глубже увяз. По самую ступицу. – Неожиданно промелькнула горькая отчетливая мысль: – Чем дальше от нас уйдут наши дети, тем будет лучше. Здоровей. Что мы такое? Крошево, пыль. Из нас уже ничего путного не получится. Отцы и дети», – он хрипло, словно превозмогая себя, сглотнул тяжелый, горький комок, что подкатил к горлу. Санька остановился. Пристально посмотрел на отца, и в лице его что-то дрогнуло. Он подошел, положил руки на плечи Ильи Ильича.
– Пап, – почти как в детстве, тихонько, просительно промычал сын, Илья Ильич сжался, стараясь ни движением, ни взглядом не спугнуть этой минуты, – ты думаешь, я очертя голову полез. Не обдумывал, не взвешивал? Думаешь, страшно не было? Я транспарант в руки взял – чувствую, древко скользит. Гляжу – а у меня ладони мокрые. Но нельзя сейчас иначе. Нельзя. Вы нам выбора не оставили…»
Теперь, подъезжая к дому, вновь перебирал слово за словом: «А что? Прав парень. Прав. А самое обидное – и кивнуть не на кого. Сами кругом виноваты. Отдали все на откуп, а теперь возмущаемся. Конечно, отсиживались, отмалчивались. Чего себе-то врать? Вот теперь и хлебаем полной ложкой это хлебово. А все потому, что каждый ладил свою маленькую судьбинушку в одиночку. «Уж как- нибудь проскользну, прилажусь. Авось меня не тронет». Ан нет! Не вышло. Каждого нагнало! Чего же теперь скулить? Сам из таких».
11
Едва переступив порог дома, начал дозваниваться к тестю. Сперва на дачу. Но там никто не отзывался. Тогда набрал городской номер. Долго держал трубку у уха. Ждал. Наконец услышал тещин голос. Начал с места в карьер:
– Антон Петрович дома? – твердо решил все выяснить и обрубить одним махом.
– Ты что же, не знаешь? Тебе Ирина ничего не сказала? Вы в ссоре, что ли? – сыпала и сыпала, как горохом, теща. Наконец выдохнула: – В больнице он. Сегодня вечером увезли. Видно, эта история подкосила. Сам знаешь, какое его здоровье – на ладан дышит. Плох он. Совсем плох.
Всю неделю Ирина молчала. Дулась. Ходила с скорбно- озабоченным лицом.
– Неужели действительно плох? – думал Илья Ильич. – А может быть, просто лег на обследование? У них ведь слова правды не добьешься.
Чего только не навидался в их доме за эти годы! Вдруг среди полного благополучия и здоровья днем звонили с тестевой службы: «Антона Петровича отвезли в больницу. Не беспокойтесь. Положение стабилизировалось». Теща обмирала с трубкой в руке. Илья Ильич внутренне сжимался в комок. Еще свежа была на памяти отцовская смерть. Только Ирина сохраняла спокойствие. Однажды не выдержал. Попрекнул: «Бездушная ты какая!» Она усмехнулась чуть свысока:
– Дурачок ты мой, простачок! У них так принято. Рокировка.
Вначале не понял этой шахматной абракадабры. После разобрался. Перележивал тесть, пережидал все бури. Уходил на дно, как рыба в шторм. Что было на сей раз, Илья Ильич понять не мог. Ирина ходила сумрачная, неприступная. «Словно великомученица», – язвил про себя Илья Ильич, а на душе скребло потихоньку, – все-таки старик. Неровен час, что случится, потом себе не прощу. Решительный разговор с тестем откладывал до его выздоровления.
Через две недели позвонила Олимпиада Матвеевна, сухо попросила к телефону Ирину. О чем говорили, Илья Ильич не прислушивался. Но лишь только Ирина вошла в комнату, тотчас отметил нервный румянец на скулах. И лицо у нее было злобным, ненавистным:
– За отца не прошу. Знаю, нет у тебя к нему ни жалости, ни уважения. Ты о матери своей подумай. Неужели так и не поживет ни одного дня по человечески?
Илья Ильич посмотрел раздумчиво. В душе его не было ни ярости. Ни желания уязвить. Говорил спокойно, как о давно решенном деле:
– Знаешь, думал много об этом. Конечно, может, и несправедлив. Но одно твердо знаю – в том, что мать живет в этой хибаре, есть вина и твоего отца тоже. Конечно, не он один. Но один из многих. Болтали о народе, а в уме держали свою выгоду, блага, привилегии. Ведь не только таких, как мать, предали, а себя тоже. Себя в первую очередь! Ты-то понимаешь? И сейчас мать нужна как костыль. Чтобы опереться, отпихнуться от ему подобных.
Ирина закусила губу. Ноздри тонкого хрящеватого носа, так похожего на тестев, затрепетали:
– Смотри, Илья! Доиграешься. Если с отцом что случится, вовек тебе не прощу. Думаешь, у тебя принципы? Нет! Элементарная зависть! Есть в тебе это плебейское, рабское. Вечно за чужие заборы, в чужие окна заглядываешь. Есть! Не спорь. Мне со стороны видней.
Она чувствовала, как волна гнева захлестывала ее. Слышала как бы со стороны свой резкий, пронзительный голос. Видела болезненную гримасу на лице мужа. Его неловкий, отмахивающийся жест: «Прекрати, хватит». Трезвые, рассудочные мысли лихорадочно метались у нее в уме: «Нашла время затевать склоку. Все дело испортишь. Того и гляди сейчас взбеленится». Но будто какая-то злая сила подхватила и понесла ее. Обычно до семейных дрязг не опускалась. На все нападки Ильи Ильича отвечала высокомерным молчанием. Лишь надменно вздергивала плечи да брезгливо усмехалась. Но сейчас будто смерч гнева закружил ее в своей воронке. «Пусть знает! Пусть. В конце концов, сколько можно терпеть! Нищета! Убожество!» Как бы со стороны, чужим, свежим взглядом она увидела добела вытертую обивку кожаных громоздких кресел, проплешины на ковре ручной работы, грубую штопку на тяжелых бархатных шторах. Все было отжившее, отслужившее свой век еще в отцовском доме. А ведь когда-то, мысленно примеряя Илью к будущей жизни, была уверена, что он избавит ее от мелочного скупердяйства отца, от ежемесячного щелканья конторских счетов и от этого невыносимого: «Чем жить будете?» На деле оказалось хуже худшего: грошовые материнские подачки, скудная зарплата, случайные убогие приработки Ильи. Со временем как-то приноровилась: летом обычно закладывала в ломбард шубу, зимой – материны кольца и серьги. В долгах была как в шелках, но одевалась с иголочки. Положение обязывало, служба. Всегда на виду, да и люди вокруг не шушера какая-нибудь, а весь цвет. Мужу до этого дела не было. Всю жизнь со своей гордыней носился как с писаной торбой. Только и слышала: «Не проси, не бери, не нуждаемся». Ненавидела в нем этот гонор неистребимый. Так и хотелось подковырнуть отцовским присловьем: «Какие нежности при нашей бедности». Особенно бесили разглагольствования Ильи о справедливости. Обычно слушала сцепив зубы, и об одном молила: «Не забивай ты своими бреднями Сашке голову. Не тяни его в свое болото. Хватит того, что сам по уши увяз». Но и этой малости ей не уступил. Мысль о Саньке словно подстегнула Ирину. Уже давно стала замечать на себе изучающий пристальный взгляд сына. Иной раз передергивало: «Он меня словно личинку под микроскопом разглядывает». В последнее время все раздражало и отталкивало в Саньке. И это быстрое насмешливое хмыканье: «Ты так полагаешь?» И резкая, не терпящая возражений скороговорка: «Прости, я занят. Поговорим в другой раз». Холодное отчуждение ширилось и углублялось, словно ров, подтачиваемый водой. Особенно обидны были нынешние краткие приписки в письмах: «Маме привет». И эти оскорбительные надписи на конвертах: «Лебеденко И.И. (лично)». «Всю жизнь против нас настраивал, старался оттереть в сторону», – думала она с яростью о муже. Обычно вида не подавала. Сдерживалась. А сегодня словно все препоны пали. С холодной злобной подковыркой спросила:
– Что тебя гложет? Ведь сам свое счастье упустил. Сам. Предлагали, тянули. Такое не каждому в руки дается. Сам отказался. А теперь на весь свет зол. И Саньку по той же дорожке направил. Вот твоя мать другая. Без всяких комплексов. Ничего не пытается корчить из себя. Ни на что не претендует. А ты из тех, кто всю жизнь крупинку в чужом супе считает. И сестрица твоя такая же.
Дальше пошло нечто мелкое. Бабье. Илья Ильич и слушать не стал. Вышел в другую комнату. Плотно закрыл за собой дверь.
12
Ну к чему опять ворошит? К чему? Ведь за тысячи километров друг от друга живут. Видятся раз в год, а то и реже. Не так- то уж и просто Лильке с ее выводком вырваться на материк с далекой Камчатки. А все равно, лишь только увидятся – сразу в штыки. Ощетинятся и пошли друг друга шпынять. Видеть этого не мог. Обидно было за сестру. Ирина, вальяжная, сдержанная, срезала ее коротко и точно. Всегда свысока. Точно от комнатной собачонки отмахивалась. Лилька, наоборот, горячилась, грубила, переступала все границы. Все это было грубо, унизительно. Мать молча страдала. Обычно первая в спор ввязывалась Лилька. Конечно, крепилась из последних сил. Ведь не раз и не два давала слово Илье не впутываться, не ввязываться. Но не выдерживала. Потом оправдывалась, каялась. Но и тогда прорывалась злоба: