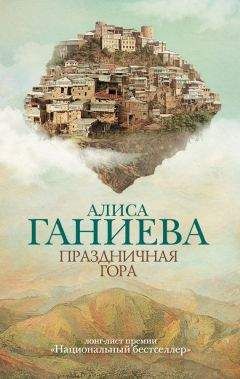Алиса Ганиева - Салам тебе, Далгат! (сборник)
Многое в повести вызывает тошноту, боль, брезгливость. Симптоматичным при этом является то (отчасти об этом уже говорилось), что герой С. Чередниченко сам пишет прозу. Ведь процесс художественного созидания уже есть обретение смысла бытия (Андре Мальро), а искусство – превращение хаоса и неупорядоченности окружающего мира в гармонию, то есть то, что Аристотель подразумевал под словом «энтелехия». Живущий творчеством живет вдвойне, и поиск, который ведет искусство, помогает ему полюбить этот мир, каким бы он ни был (А. Камю). Однако Грише творчество жить не помогает, и вообще: «Зачем писать? Можно просто надрочить на бумажку, размазать равномерненько и “отдать людям” – любуйтесь, вот вам искусство. Такой вот у меня “художественный метод”».
Развлечение молодежи в «Потусторонниках» – и утонченной, и уличной – полная отдача инстинктам, игра с ними, жертвоприношение телесным желаниям, возведение порока в способ отрешения от всего внешнего, саморазнуздание и тем самым срывание с себя всех масок. Если у Рабле вся эта плотскость была гимном жизни, если у древних народов она смыкалась с божественным и воспевалась в мифах, здесь – это грех без всяких прикрытий, демонстрация собственного бессилия во всём другом, пощечина порядку и здравомыслию.
То же самое в повести Марины Кошкиной «Химеры». Ее герои, еще старшеклассники, пьют, курят, колют вены и идут в ночь бить врагов арматурой. И родители ничего не могут поделать. Скучающий Илья («Вся жизнь – цепочка лишенных смысла действий. И люди – дебилы. Ничего интересного».) и его плотоядная, всем довольная сестра Лиза («Дикий зверь, самка… что еще скажешь?») переезжают в другой город к тете, чтобы начать там новую жизнь и закончить школу. Но через время беспорядочная жизнь возобновляется – Илья связывается с замужней наркоманкой Анечкой и ее друзьями, а Лиза втягивает туда еще и «хорошую девочку», художницу Нелли.
Нелли не может жить без кумира, без влюбленности, словом, без идеальности, но Лиза ей растолковывает, что все мы – животные, и что любви нет, а есть инстинкты, то есть любовь есть только инстинкт. Илья же ищет смысл жизни и, гуляя с новой компанией, все еще дистанцирует себя от них, по сути нелюдей, трупов: «…он еще способен мыслить и хотеть чего-то большего, чем никчемное растительное существование. А они уже нет. Они довольны собой, они довольны дешевой водкой, загаженным клубом, смешанным с мелом героином. Героин – это от слова “герой”».
Эстетика нигилизма заставляет этих детей слишком рано стать черствыми, эгоцентричными гедонистами, для которых каждая минута без наслаждения превращается в муку, в дурные мысли, в неудовлетворенность. И опять возникают онтологические проблемы. «Смерть, – думал Илья. – Она похожа на снежного барса. Она такая же нежная и страшная».
Герои М. Кошкиной, да и С. Чередниченко, недовольны миром и собой, в частности, как чем-то данным и заранее обусловленным всем ходом событий или какой-то высшей субъективной силой. Это слишком детерминистский подход. Не мы ли сами творим себя и свой микрокосм? Не свободен ли человек от рождения в своем выборе себя и мира? То, что имели в виду экзистенционалисты, когда говорили, что наша сущность является прежде существования. Человек ведь сам ответственен за то, чем он является. Если не он, так его родители. Как поступала Анечкина мама с дочерью? Запрещала ей всё до мелочи и громко звала домой со двора. И Анечка нашла приют у опытной подружки, села на иглу, вышла замуж «по залету», родила больного ребенка, а затем изменяла мужу со всеми собутыльниками. В общем, научилась ловить кайф. В этом теперь и заключался смысл и образ ее жизни. Да и многих ее друзей тоже. Кайф, кайф, кайф – это чуть ли не главное и не определяющее слово современной литературы. Все хотят ловить кайф, но все это делают не от хорошей жизни и после принятого ЛСД возвращаются к рутине еще более надломленными. Депрессия и удовольствие каким-то странным образом сплелись в обществе молодых, образовав опасный, не разлагаемый материал.
М. Кошкина, как и С. Чередниченко, реалист. Но и романтик тоже. Ведь и Илья, и Нелли, и самовлюбленная Лиза не приемлют общество и себя от него отстраняют. Однако в конце повести «Химеры» (все построение так называемой новой жизни здесь, по сути, – химера, неосуществленная мечта) мир Анечки, уже умершей от передоза, отступает на второй план. Довлеет оптимистическое настроение. Три выпускника, счастливые, бредут после вечера по ночному городу и смотрят в будущее. «Мы вступаем в эту жизнь вместе, втроем. Молодые чудовища. (Не античные ли химеры имеются в виду? Или заигравшиеся зубастые котята? – А. Г.) Потрепанные, виноватые, разочаровавшиеся во многом, очарованные многим, думающие о многом. Заслуживающие, может быть, наказания за что-то».
В связи с тематикой школы и выпускного вечера как апогея духовного развития героя, как в случае с произведением М. Кошкиной, вспоминаются две повести двух Ивановых – Андрея и Алексея. Андрей Иванов, финалист «Дебюта» за позапрошлый год, в своей «Школе капитанов» тоже пишет о малолетнем блуде – первые пьянки, мордобой, дискотечная духота и обкуренность. В поселке, затерянном в тундре, много неблагополучных семей, алкоголиков, и дети их занимаются съемкой любительских порнофильмов, тайным глушеним водки, межполовыми отношениями, а учителя или подавляют, или соблазняют детей.
Герой, Алеша Иевлев, самый отсталый в перечисленных вопросах, с трудом входит в пропущенную им дома за книжками взрослую жизнь. Но, когда входит, отдается ей вполне. И он тоже не совсем понимает, как и где ему найти свое место. Уйти в порок, как друзья, добиваться взаимности распутных одноклассниц? Или попытаться выйти из этого круга? Размышления его после выпускного вечера предсказуемы: «Я чувствую себя капитаном, сходящим на берег после долгого плавания. Передо мной моя земля. И я могу идти, куда захочу. Но куда бы я ни пошел, я не знаю, зачем я там нужен».
Книга пермского музейного работника Алексея Иванова «Географ глобус пропил» об этом же поколении, но не изнутри, а снаружи, с позиций взрослого человека. Этот ракурс не позволяет нам проникнуть так далеко в души школьников, как хотелось бы, он не показывает всех тех брожений, которые творятся там внутри. Главная героиня здесь не кричащая от боли Юность, а замерзающая в одиночестве Зрелость. Учитель географии Служкин пристраивается к своим разбитным ученикам, понемногу сживается с ними, но самое важное для него – любовь к девятикласснице, и любовь довольно конкретная, овеществленная, осязаемая (а не полувымышленная влюбленность Нелли из «Химер» в учителя МХК). Однако, несмотря на взаимность, эта любовь не находит разрешения, и с последним звонком девочка остается с ровесниками, а семейный Служкин увольняется. И «прямо перед ним уходила вдаль светлая и лучезарная пустыня одиночества».
В советских соцреалистических школьно-студенческих произведениях тоже описывались гулянки («Прощание в июне» Вампилова, «Коллеги» Аксенова), любовь к учителям («Уроки французского» Распутина), к одноклассникам («Весенние перевертыши» Тендрякова, «Ее друзья» Розова), но ничто из этого не носило такой запачканный, патологический, такой запущенный и демонстрационный характер. Неужели так изменилась молодежь? Или – сама литература?
Здесь мелькнуло слово, образованное от термина «соцреализм» – того самого не раз обруганного соцреализма, который дал целый пласт блестящей литературы. Однако сам термин лично для меня не вполне однозначен. Этот реализм «правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии» тоже иногда называли «новым» или «утверждающим» в противовес реализму критическому. Но даже такие образцовые произведения, как горьковская «Мать» и «Железный поток» А. Серафимовича, скорее мифологичны, полны библейских коннотаций. Это больше символы (в первом случае – человекоспаситель и его мать, во втором – выход из ловушки и обретение народом земли обетованной), чем правдивые изображения новых жизненных процессов.
Да и Павел Корчагин, Алексей Мересьев – не мифологемы ли они, не символы ли? Несмотря на то, что Н. Островский писал достаточно автобиографично, у него получился яркий и сильный образ со стертой индивидуальностью. Павка отказывается от любви, от всех личных желаний во имя счастья и благополучия коллективного, и тем самым превращается из человека в героическую маску.
Тогда было много людей, искренне готовых вылить свой черпак масла в общий костер. Теперь мы скорее напоминаем героев одной забытой рекламы: лектор спрашивает, кто выпил его пепси. Студент медленно встает для признания и под трагическую музыку говорит: «Это он!» «Он», а не «я». Выдает товарища. Раньше такое считалось неприемлемым. Отметалось всё, что было эгоцентричным. И зачастую отметалось само «эго». А ведь так ли это правильно и нужно – терять себя и разнопеструю, многоцветную дискретность превращать в монолитную, идеальную, но скучную целостность?