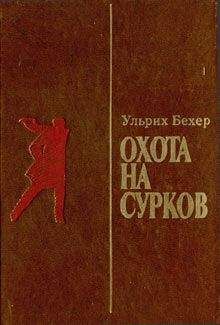Павел Кочурин - Изжитие демиургынизма
Дмитрий Данилович в думах о своем, сказал о погоде. И Андрей Семеќнович, отры-ваясь от своих вселенских мыслей, отозвался на думы креќстьянина-мужика:
— На ясной зорьке и навешу твое Данилово поле. Что-то оно все таќится. Опасается, как вот и мы сами, чего-то неверного. Взгляда на него не такого, мазка неверного, цвета… Поле-то, оно живое, чует нас. Мы вот на него с надеждой глядим, но и оно на нас с тем же… — оперся руками на завалинное бревно, на котором они сидели, метнул взгляд мимо Саши Жохова на Дмитрия Даниловича. — И пойду вот с новыќми мыслями к твоей руко-творной картине.
— Мою картину не приладишь на стенку, стенки такой и крюка такого не сыщется, — отозвался Дмитрий Данилович. — А тайна-то поля и мне не больно дается. Она и в глуби, и в выси. Сыр-Мать земле кланяйся, а у неба милости выспрашивай. До тебя так было и с тобой не кончиќтся. Вечное, оно и есть вечное.
Саша не подавал голоса. Да и как ему было встревать в такой разгоќвор пахаря с ху-дожником. А ведь мог бы. Какого мужика не клонит поќфилософствовать, особенно если он потерся около властей и чего-то уже и не мужицкого нанюхался. Поддержать разговор Корня и Поляка Саше мешала еще и осознаваемая униженность. Кто вот он для них?.. Между ними сидит вором, а они — чистенькие, непорочные. Так что — пусть говорят о сво-ем. И память навела его на слова услышанного анекдота, что на Святой Руси на двух чис-теньких приходится один неќчестивец. Вот и тут — их двое и он один. И все же это рассуж-дение задело в нем какие-то сокрытые струны. Вызвало осознание вины, почти даже не-нависти к себе такому. Он мог бы встать и уйти в дом. И ушел бы незамеченным и не ос-тановленным. Но не мог уйти. Ждал их слова о себе. Пусть бы Корень сказал ему что-то самое оскорбительное. Тихо так, убийственно, как он не раз говорил ему. Он стерпел бы. И оправдываясь, как бы невзначай, попросил еще раз прощения… Но ни Корень, ни По-ляк не хотели его замечать. Занялись какими-то разговорами о своих картинах. И он в нетерпении начинал злиться на себя и ненавидеть их… Вот если бы он успел опустошить улья в краќсном домике и скрыться, Корень страдал бы, а он радовался, оставаясь неуязвимым. А теперь одно — пасть в ноги им и упрашивать, чтобы
они пощадили его, позор не ему больше, а жене и дочери. Опираясь о бревно завалинки руками, пытался было приподнять, решаясь высказаться. И тут в хлеве за домом пропел петух, будто хотел остеречь своего хозяина от притворного покаяния. На голос жоховско-го петуха отклиќкнулись другие. Деревенька огласилась живыми вещими голосами… Но почему вот прежде других пропал петух самого Саши??. Была уже злоќба и на петуха сво-его.
Андрей Семенович и Дмитрий Данилович по знаку петушиных голосов всќтали с завалинки и пошли к калитке, не взглянув на Сашу… На кирпиќчной дорожке оставались цинковые ведра… Молчаливый уход Корня и Поляка, пение петухов и отражение небесного света боками цинковых ведер ввергли Сашу в ярость. Он привстал, будто шилом подковырнутый. Порывался было бросится вслед уходящим, но что-то черное в себе деќржало возле завалинки. Как колдуна оберагают от добра силы тьмы, так и Сашу не отпускало к свету торможение тьмой. Пытался крикнуть: "Постойте, не оставляйте, велите, и я признаюсь во всем, поклянусь". Но крикнуть тоже не мог. Хотел, и не кричалось… И взяла неунятая обида и злость на Корня и Поляка.
Не прощенный, не покаявшийся и не раскаявшийся он и будет нещадно мстить за свою вину… Праведность вот чего-то недоделала, недоуќчла по неопыту прощать все и всем. Оставила злонамеренника в его кромешном мраке. Двое не обороли демиургынова нрава и в них заразой вселившегося. Таково наше мирство, замороченное идеей светлого будущего. Как вот вызволить из себя его демоническую силу.
На Сашу с угрозой таращились как чудища в ночи два глаза цинкоќвых ведер. Он глянул было на свою калитку в дом, но на глаза попаќлся обрезок трубы. Одним концом он лежал на завалинном бревне, другой упирался в ступеньку и загораживал вход на крыльцо. Саша застыл на месте. Враги его уходили без оглядки. А он глядел им вслед, как растерявшийся преступник, вроде бы и выпущенный на волю, но еще не на воле… Вот смолкли их шаги. Они остановились возле избы художниќка. О чем-то поговорили, похо-же рассмеялись. Это Саша уловил обостренным в тот миг своим слухом. Ворохнулись грачи на коринских береќзах. И все стихло. Не пели и петухи.
Саша оставался пойманным вором, обвиненным, непокаявшимся и не прощенным. Но на ком вот больше греха?!.
Свидетелями всего тут случившегося выступали цинковые ведра и обрезок трубы, черневший как обугленный кол на пожарище. Как вот Саше поднять свои ведра, и что делать с этой железиной, оставленной Корнем. В утробе его произошло какие-то опустошение. Будто вышло из него что-то живое — душа оставила его тело. И выйдя, глядела на него издали как на чужого. А может и не было в нем человеческой-то души, такой, какая вот у других. Как-то Корень ему сказал: "Ты, Александр Ильич, человек бездушный". Это было сказано им в споре и не вызвало обиды, но вот осело в памяти. И тут вдруг вспомнилось, выскоќчило наружу… А что если он и впрямь жил без души. Плыл бревном по течению, как вот говаривали моховские старики о непутевом человеке. Куда вынесет мутное половодье там и быть. И вот прибило его к топкоќму берегу. А рядом глядят на него со своего высокого берега эти саќмые Корни. Они другие, у них всему свое подтверждение и на все свое мнение. Разные высказы их и лезут в голову, и бередят. Прошла минута, другая в борении Саша-Прокуроре с самим собой. И что-то взбунтовалось в нем, взбурлило, задвигалось, подталкивая к прежнему себе. Захлестнула сознание черная волна мести. Андрюшка Поќляк, мазило этот, говорил о нечистой силе, о стыде и вере. Это обо мне. Я по их с Корнем и есть нечистая сила, без стыда и совести. И что во мне нет веры ни во что. И Саша выговорил вслух, чтобы лучќше слышать самому себя: "Н, погоди же ты, Корень. Узнаешь и испытаќешь власть этой моей темной силы и веры. Сам станешь темным. И Поќляка на крючок подцеплю".
Нет, он, Саша-Прокурор, Жох никуда не исчез. И исчезнуть не мог. Не дано ему воли освободиться от сатанинского демиургызма. Он пороќжден той силой, что века копи-лась на Татаровом бугре… Подошло то время и пахарь праведным своим действом очи-стил клятве место от скќверны. Но скверна не ушла далеко, она осталась в заневоленных челоќвеках. И как вот бесы изгнанные Христом из одержимого не захотели уходить далеко и вселились в синей, так и скверна осталась клятьем в демиургынах. И в нем вот, Саше Жохе. И долго еще будет донимать олукавленный люд, пока молитвой мирской право-славного люда не изойдет она в преисподнюю.
Отравленный вселившейся в него сатанинской ненавистью, Саша взял обрезок трубы, забытый Дмитрием Даниловичем, и пошел, крадучись к дому Корниных. Остановился у калитки и метнул, как разящее копье, через изгородь во дворик к березам. Словно бомбу подбросил, коя долќжна взорваться и порушить мир коринского дома… Но может порушить и не Корня, а самого Сашу. Но из омраченного ума и окаянного сердца этой опасности самим Сашей не осознавалось.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Вот и изошло на колхозный люд казенное повеление о начале массоќвой заготовки грубых кормов. Вроде немного и рановато, но — исполняй, указание изошло… Вывели тех-нику на клевера. Но как-то нехотя, без азарта, всего лишь для отчета… Не сенокос начали как священќную страду крестьянскую, а работу по указанию, названную косовицей.
Тут же вслед за колхозной заготовкой кормов, настала пора и своего сенокоса. На-чался он с неизменной опаской, с тревогой в себе. Вдруг да нагрянут, как бывало, упол-номоченные, и запретят. А то, что ты успел украдкой накосить "для себя", отберут для обеспечения общесќтвенного поголовья. И все же "неразрешенное" кошение для своей ко-роќвки, как утро заревое после сумерек, ободряет надеждой: проживем.
Первым делом зазвякали косы в своих овинниках. Участки за домом перед бывши-ми нагуменниками, так и продолжали называться овинниками. Затем все переместиться на лесные лужайки. Туда колхозный люд проќбирается как бы тайком. Начальство видит, но "закрывает глаза". И каждый раз из года в год ждется: будет нынче "укорот", или пронесет. Вошло уже в быт украдкой запасаться сенцом. Хотя какая украдка, кто о том не знал. Но оберегалось этой тайностью прежде всего само коќлхозное начальство. Если что, так и можно сказать: разрешать нам никто не разрешал, самовольно. Как иначе-то, без своей скотинины не проживешь. Но вот своя корова при своем дворе что приблудыш, лишена права быть при нем. Кажись бы всем ясно, что она кормилица не одного колхозного люда. А вот корм для нее собирай как белка грибки и ореќшки невидно и припрятывай. Это тебя и понуждает жить кривдой, вроде как чужаком на своей земле. По законам "свое" — не в законе, такого не должно быть.