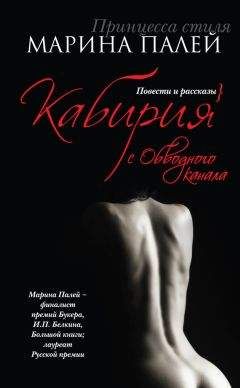Томас Хюрлиман - Сорок роз
Мария медлила.
— Папá, Лаванда сказал…
— Лаванда, Лаванда! Лаванда устарел, так и запомни. Отстал от времени. Если б твой Майер пораскинул мозгами, давно бы послал тебя к другому врачу.
— Вот как, неужели?
— Мне вдруг стали нравиться горы. Никогда я их не любил, а теперь они мне нравятся. Знаешь, я не удивлюсь, если родятся близнецы.
— Близнецы?!
— Да, близнецы. Твой брат всегда так радуется, когда крестит их. Но прежде мы отпразднуем твой день рождения, устроим настоящий прием, с холодными закусками, с музыкой и фейерверком…
— Папá, мой день рождения давно прошел.
— Правда?
— Помнишь мое тринадцатилетие, тогда, до войны?
— У мадам Серафины…
— В гостинице «Модерн»…
— Когда мы вошли в столовую, муссолиневские чернорубашечники повскакали со стульев.
— В Генуе, милая моя, твой отец вырвал себе сердце из груди. И все напрасно.
— Напрасно?
— Нибелунги пощадили нашу страну. С тем же успехом мы могли остаться дома. Но твой брат так меня донимал. Корил, что я ставлю под угрозу твою жизнь, твой талант, твое великое дарование!
— Там нет роялей…
— Ну, кой-какие все-таки есть. Правда, ужасно расстроенные! С прогнившим нутром! Моцарт на них звучит как Шёнберг. По клавишам ползают муравьи, жуки и прочая нечисть. Они даже войлок на молоточках сжирают. Ты мне не веришь?
— Нет, — засмеялась она, — ни единому слову.
— Почему?
— Потому что ты никогда не был в Африке.
Он обиженно заворчал.
— Да ладно, папá. Это замечательная история.
— Это чистая правда, и когда ты будешь рассказывать своим детям про их деда, то покажешь им орден, которым англичане наградили меня за победу в чемпионате. Он лежит у меня где-то в шкафу, со старыми шляпами.
— Ах, я понимаю, — вдруг воскликнула она. — Ты имеешь в виду, что у обеих будет по ребенку — у Марии Кац и у Марии Майер… Папá? Ты спишь, папá?
Он большими глазами смотрел на нее.
— О чем бишь мы говорили? Я потерял нить, прости…
В пути II
На аварийном участке, под вечер.
Мария стояла у отбойника, в длинной веренице автомобилистов, смотрела в пустынный простор, надеясь, что аварию скоро ликвидируют. Чуть дальше впереди на крутом откосе виднелись следы колес и легковой автомобиль, боком зависший на склоне; из-под капота валил жирный черный дым. Мерзко пахло машинным маслом, бензином и горелой резиной. Пожарные поливали остов автомобиля пеной, а солнце проступало сквозь бурую завесу как круглый диск без лучей. Долго ли придется ждать? Когда поедем?
Она сердилась. Могла бы заранее принять это в расчет. В конце летних отпусков, когда все возвращались домой, частенько случались аварии. Движение встало, причем в обоих направлениях, над магистралью нависла напряженная тишина. Не повезло. Теперь она снова потеряет время, которое успела наверстать. Да, как нажито, так и прожито.
Из глубины ландшафта, мало-помалу нарастая, послышался вой сирены, вероятно «скорая помощь».
Голые, сжатые поля.
У горизонта уборочные машины.
И послеполуденная духота, бессмысленное стояние, ожидание, раздумья. Мужчины всегда стоят, верно? У алтарей, в парламентских кулуарах, на приемах, на рыбалке, в карауле, на кафедрах, за ораторскими и дирижерскими пультами, в танковых башнях и на постаментах памятников. И конечно же одному из этих возвращающихся домой отпускников хватило бесстыдства прямо из толпы, облепившей парапет над летним ландшафтом, пустить струю мочи. Спору нет, незадолго до эпохального конгресса, где Майер выступит со своей программной речью, обижать инструкторов никак нельзя, мальчугану это известно. И что действовала она по поручению Майера, ему тоже известно, как и то, что инструкторам она симпатизирует не больше, чем он сам. Надо было коротко упомянуть о приглашении на этот идиотский матч, и баста, так нет же, ей зачем-то понадобилось добавить, что на стадионе он будет в гуще простого народа. И что ей, матери, ничуть не мешает, что Падди из простой семьи. Господи, какая неприятная оплошность! А дальше? Хотела ее загладить — и совершила еще одну!
Стоять.
Ждать.
Многие были в робинзоновских шляпах, купленных в Римини или Каттолике, уплетали арбузы, пили кофе из термосов, сидели вокруг походных столов, пялились в игральные карты. Некоторые заливали воду в дымящиеся радиаторы; другие проверяли аккумуляторы, пинали ногой покрышки. Шоферы грузовиков нетерпеливо ждали в кабинах, а за мутными стеклами туристского автобуса виднелись пассажиры, спящие с открытым ртом. Из громадной фуры для перевозки скота тянуло сладковатым запахом хлева, и Мария подумала, не стоит ли сказать шоферу, что его груз изнывает от жажды.
Снова сирена, на сей раз в другом направлении, на запад, где вскоре затихла в глубине ландшафта.
Господи, как бежит время! Об Айслере много лет ничего не слышно, наверно, он погиб от голода в сталинских лагерях. А Фадеев, замечательный Федор Данилович, года два или три назад уехал в Японию, чтобы обрести священную тишину, последний покой, дату смерти, отсутствующую в энциклопедии.
Мария знала, что примерно десятью километрами дальше есть база отдыха для дальнобойщиков. Но кому позвонишь? Кого попросишь истребить глупость, которую она сделала нынче утром? Сложный вопрос. Медленно Мария вернулась к машине, покрутила настройку радиоприемника, побарабанила по рулю. Может, позвонить Луизе? Но пока она поднимется со стула! Да доползет до телефона, снимет трубку и поймет, чего хочет от нее Марихен! Может, Перси? Уже лучше. Он единственный, кому ничего не надо объяснять. Он сразу ее поймет, почти наверняка. Милый мой Перси, могла бы сказать она, у меня к вам просьба. Будьте добры, сходите к нам на террасу и снимите лампионы.
Что я должен сделать?
Снять лампионы! Пока мальчик их не увидел…
Близнецы
Внезапно что-то звякнуло. Моя фарфоровая чашка, успела подумать она… или стакан папá… но и вопрос, и звяканье отзвучали, эхом прокатились в великой сумрачной пустоте, а очнулась она на больничной койке, кругом суетились медсестры в белом, на животе у нее лежал пузырь со льдом, и ее не оставляло странное ощущение, будто по краям она разжижилась. Откуда шла боль и где прекращалась? Почему из глаз текли слезы? Так много вопросов и ни одного ответа. Жалюзи даже днем не открывали, и где-то поблизости, видимо в другой палате, звонил телефон, звонил и звонил, причем трубку вообще не снимали. Вдобавок эти несносные столики на колесах! Звон! Дребезжанье! Да какое! Действующее на нервы, подавляющее, сводящее с ума, жуткое дребезжанье. С пяти утра до семи вечера сестры возили по отделению эти столики, перекатывали их через пороги, налетали на спинки коек, на тумбочки, а поскольку каждый был уставлен чашками, флакончиками с лекарствами, стаканами с букетами термометров, звону и дребезжанию не было конца. Когда в палату входила старшая сестра, она включала свет. Потом вежливо спрашивала, не стало ли госпоже Майер получше, как там температура. Старшая сестра, преисполненная сочувствия. Спрашивала, какие у нее пожелания, хвалила красивый букет роз, обещала вкусный ужин, и не будь пациентка до такой степени слаба, она бы пала в ноги старшей сестре, как в свое время настоятельнице монастыря Посещения Елисаветы Девой Марией. Милая, дорогая старшая сестра, сказала бы она, делайте со мной что угодно, я прошу только об одном: не давайте температурному листу после занесения новых данных ударяться о койку!
Напрасно Мария плакала, напрасно хныкала. Температурный лист висел в изножии койки на двух цепочках, и милая, добрая старшая сестра по-прежнему предавалась своему хобби: бум! Температура отмечена: бум! Неужели она не замечала, какое сотрясение удар свинцовой рамки с картонной табличкой производил в пустом животе роженицы? Или она делала так нарочно? Сердилась, что температурная кривая пациентки каждый вечер ползла вверх, как при малярии, и оттого считала необходимым назначить ей небольшое, но довольно суровое наказание — бум?!
Бум! Марии только и оставалось, что лежать и страдать, плакать и ждать. Ждать Оскара, современного гинеколога, и, слава Богу, его появление обеспечивало некоторый покой. Перед его приходом столики замирали. Телефонную трубку снимали. Сестры подкрашивали губы, пудрили щеки, поправляли шапочки и на цыпочках порхали по отделению — убирали лоток, опорожняли горшок, смахивали с тумбочки опавшие розовые лепестки. И вот он! В окружении медицинских субреток в отделение вплывал Оскар и первым делом принимался мыть свои тонкие руки. Намыливал и тер немыслимо долго, производя ими какие-то визгливые звуки, будто котенка топил в умывальнике. Потом щипал за щечку одну из сестер, обычно самую молоденькую, в ответ все хором хихикали, а он с возгласом: «Ну, как мы сегодня себя чувствуем?» — боком усаживался на край койки. Старшая сестра гордо вручала ему температурный листок, который он принимал с улыбкой, и краснела до корней волос. Далее сей хищный щеголь щупал пациентке пульс, причем его наманикюренные пальцы располагались на голубых жилках белого запястья как на грифе скрипки. Трогательный жест, о да, конечно, однако все напрасно, сердце бедняжки Майер уже не откликалось.