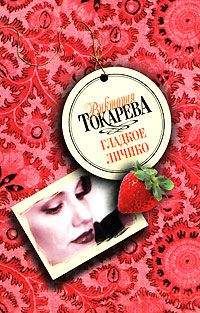Владимир Березин - Свидетель
Прошло несколько лет, и вот он присел рядом на крыльцо и уже успел обвонять меня сплющенными папиросами.
— Молод ты и не знаешь жизни, — наконец сказал он. И тут же, утешая, прибавил: — И никто не знает. Не горюй.
— Ладно, — согласился я.
— Не горюй. Все, кто думает много — того… (и он постучал почему-то по сапогу). Вот работал я на заводе — был у нас один инженер. Умный.
Помолчал и добавил: «Очень». Потом он повторил:
— Умный, так тоже: тронулся. Сядет у себя в загородке и начнёт себя гладить. Гладит, отряхивает, каких-то тараканов с пиджака снимает — а там и нет ничего. Я как-то зашёл к нему, так и обомлел — инженер наш, видать, всё с себя счистил, снял башмак и ну его вытряхать под столом. Я над ним стою, а он под столом сидит, сопит так сердито и башмаком: «шлёп, шлёп…»
Потом дружок его пришёл, слава Богу, положил ему руку на спину и просто так говорит: «Не надо, Саша…»
Тот башмак одел, и ну по синьке указания давать. Дельный мужик был. Дальше слушай. Был как ты — за художницей ухаживал. Картинки в книжках рисовала. Таланта — пропасть. Руки — золото. А я только с флота пришёл тоже… Вот. Смотрю — дело неладно. Боится кого-то. Ну, думаю, разберусь, и не такое бывало… А она мне: «Меня, говорит, враги хотят убить…» Какие, думаю, враги? А она-то отвечает: «В булочной за мной наблюдают и специально в буханку ухо запекают, чтобы слышать всё». Эге, опять думаю, шутит! Ан нет. Потом позвонили ей — Серёжу спрашивают, а она и говорит: «Сейчас позову», а сама слушает, слушает, думает — притворяются, в трубке-то. Почтальону никогда не отопрёт, а про соседок кажет, что они буравом стену сверлют, чтобы в темноте газ пустить. Я сначала думал, она меня так отшить хочет, а потом решил: а ну её к лешему! Вдруг это ещё заразное. Жалко, конечно. Она красивая была. И зарабатывала прилично. Ты слушай, слушай. Видать, не веришь, а вот знай — их всё больше. Как кто поумней — так всё — съехал. Молодой, не знаешь, а я вот узнал.
Глаза его сверкнули, и, незаметно для себя, он раздавил пальцами свою папиросу.
— Недавно узнал — сказали. Добрые люди сказали. Кто — не выдам. Может, во всей стране три человека знают — да вот ты со мной… Это спутник. Неизвестный спутник. Он летит и вычисляет по специальным локаторам всех учёных людей. Как вычислит — пускает луч. Бац! И человек спёкся. Тронулся. Только тот спасётся, кто сможет защитить свою башку. И я обхитрил эту заразу, видишь: (он, сняв с головы кепку, показал гладко выбритую голову), видишь — отражает! Отражает! Некоторые пытались зеркало на шапку присобачить. Но шапку снимешь — и бац! — ходит человек, как нормальный — ан нет! Облучён! И сам не свой, а его жизнью управляют. Понял?! А теперь поклянись, что не скажешь никому!
Но я не сдержал клятву.
Сторож ушёл пить свою яблочную наливку, а я сижу на крылечке и курю, прощаясь с дачей.
Весной здесь несколько иначе, но тоже пусто.
Лес прозрачен. Кто-то разбил большое зеркало, рассыпав осколки между берёз. Берёзы растут вверх и вниз в окружении луж. Вниз и вверх. Вода кругом.
Потом к костру у пруда, близ ржавого троллейбуса, подойдут мои соседи — юфти и груфти. Подойдут озабоченные хипы. Подойдёт аппаратная комсомолка и дембель. Подойдёт спортсменка и оперативник. И каждого будет по паре.
Осенью и зимой, в гулкой тишине умирающего леса. И ежи исчезли. Совсем исчезли. Оставлен ежами. Обойдён летом.
Осень. Осень в дубовых лесах. Осень в подмосковных лесах. Осень в ленинградских парках. От Царского Села до Павловска пошуршать листвой. Побродить без тропинок.
Этот воздух можно сушить между страниц. Засохшие пластины будут выпадать при переездах, покрывая пол красно-жёлто-коричневыми пятнами. Нет, лучше осень в буковых, далёких крымских лесах… Далёко они, вот ведь как. Совсем далеко. Всё одно к одному.
Под ногами старый костёр. Труп костра. Скелет костра. Давно сгнивший костёр… Я смотрю на него и вспоминаю забайкальские костры в тайге, с рогульками, поросшими мочалой. Ржавая проволока трухлявых лагерей. Осенний прах и тлен. Забор здесь тоже порос мочалой. Дом врос в землю, деревья проросли. Мочала выросла. Осенняя пустота и тишина. Гулко и далеко слышно.
Я сижу, вдыхая пряный, настоянный на жухлых травах, упавших, павших, падших листьях, винносладкий осенний воздух. Золотая осень.
Дачный, а вернее — садовый участок был засыпан листьями. Всё было в ожидании сна — холодная старость цветов и грядок.
Лето умерло, и состарилась даже осень. Я приехал сюда за яблоками в дни начала старости года, прощаясь с прежним временем.
И вот я иду к костру и ложусь на старый ватник, прижимая приёмник к уху. Он говорит:
— Продолжаем цикл «Все сонаты Бетховена». В исполнении Артура Шнабеля вы услышите…
Тёмные вертикали деревьев скрываются в темноте.
Падают в саду последние забытые яблоки, и с серебряным шелестом слетают с неба звёзды. Под бетховенские молоточки шествуют под пологом леса сонные ежи. Выбежала и исчезла деловитая собака. Пролетела над костром большая птица, медленно взмахивая крыльями.
В Час Перемены Времени на всё это начинает падать снег.
Предвоенное
Цвет — светло-коричневый, уходящий по краям в небытиё.
Цвет предвоенный, знаменитого своей статистикой тринадцатого года, ахматовского рубежа веков. Этот год как бы нулевой, отсчётный. Цвет пыли на немощёной улице. Это ломкая фотография, с трудом извлечённая из окружения такой же ломкой бумаги в альбоме с золочёными застёжками. Повод для рассуждения, упражнение в криптографии. Разговор о прошлом, отправной точкой которого — старая фотография, полон семиотических находок. Он напоминает бартовское описание негра под французским флагом, долгий и утомительный путь структурализма.
Попытки восстановить что-либо всегда кончаются неудачей. Прошлое додумывается, оно ускользает. Между тем наблюдатель, рассматривающий ветхие дневники и ломкие фотографии, конструирует прошлое по своему вкусу.
В нём появляются ценные для наблюдателя факты, всплывает гордость за мифическую конструкцию.
Это мнимая причастность к миру Атлантиды. Мир этот ускользающий, его не понять, а можно только додумать.
В моём, восстановленном с ломкой фотографии, мире — шляпки и высокие ботинки на шнуровке. Копошащаяся собака, не длинные, а долгие пальто, и оконные стёкла, за которыми уже ничего не увидеть.
В нём мёртвые души вещей.
В «Других берегах» есть рассуждение о камушках, осколках другой жизни, археологических свидетельствах, что катает прибой в Ментоне. Там, пишет Набоков, «были, похожие на леденцы, зелёные, розовые, синие стёклышки, вылизанные волной, и чёрные камешки с белой перевязью. Не сомневаюсь, что между этими слегка выгнутыми творениями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашёл в 1903 году на том же берегу, и эти два осколка продолжали узор третьего, который на том же самом ментонском пляже моя мать нашла в 1885 году, и четвёртого, найденного её матерью сто лет тому назад, — и так далее, так, что если б можно было собрать всю эту семью глиняных осколков, сложилась бы из них целиком чаша, разбитая итальянским ребёнком Бог весть где и когда, но теперь починенная при помощи этих бронзовых скрепок».
Это великая и оптимистическая иллюзия. Иллюзия, чем-то напоминающая украшенный табличками последний путь Христа, расположенный на несколько геологических метров выше культурного слоя Римской империи.
Даже предметы умирают, перерождаются, и по их изображению не восстановить облика.
В альбомах прошлого и нынешнего всегда много групповых фотографий, где лица повёрнуты в одну сторону. В них мало быта.
Начнём с безголового чудовища. Принадлежность к домашнему зверью несомненна, это, разумеется, собака. Мгновение, когда открылась шторка или крышка аппарата и лучи света попали на йодистое серебро, совпало с движением лапы. Поиски блох превратили собаку в загадочное существо, трехногого уродца. Имя, сохранённое памятью одного из персонажей через восемьдесят лет, выгодно отличает пса от одной из девочек. Марсик, может — Марс. Астрономически удалённый от меня, он остаётся без морды в движении, смазанном временем, как колонковой кистью.
Прадед ведёт деда, дед смотрит на собаку, та (тот) выгибается, показывая чудеса эквилибристики.
Все заняты делом, лишь неизвестная девочка смотрит в объектив.
Жёлтый цвет пыли на гатчинской улице, весенние, невызревшие листья, количество пуговиц на пальто (четыре), движение собачьей лапы и высунутый язык — сохранилось всё.
Ничего не пропало.
Очертание тайны в руке прадеда, то, чего не узнать никогда — подарок ли в цветной обёртке, бесполезная ноша, случайный предмет, нечто, прижатое к толстой ткани пальто.