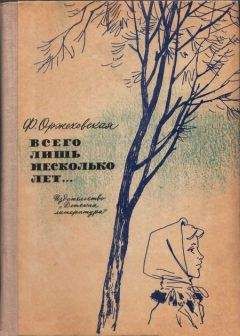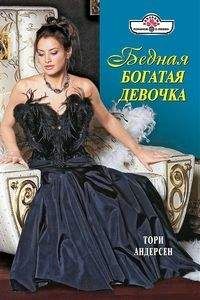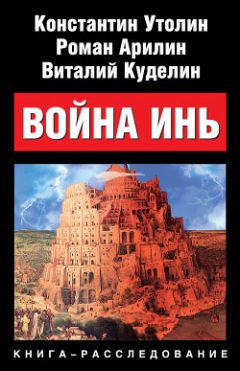Кейт Уотерхаус - Билли-враль
— Ты про кого?
— Про твою бабушку с матерью, про кого же еще! Бабушке опять стало худо. Мы тут целый час пытались тебе дозвониться. Где ты шляешься?
Меня кольнуло неясное опасение: только этого мне еще не хватало. Обыкновенно, когда у бабушки кончался припадок, она сидела себе тихонечко в своем кресле, постепенно набираясь сил для более или менее нормальной жизни. А вот повторный припадок грозил ей, как нам говорили, серьезными осложнениями. Я был рад, что ее убрали из дому.
— А что с ней? — хрипловато, чтоб казаться сочувственно-озабоченным, спросил я отца.
— Ты вот растолкуй-ка мне сперва, что с тобой, — медленно закипая, проворчал отец. — То он говорит, что идет на свои растреклятые танцульки, а сам околачивается в пабе. А то мы ему полночи названиваем, и его, видите ли, нигде нет!
— У меня… — начал я.
— Ты вот у меня скоро доуменякаешься! — рявкнул отец. — Ну-ка вызывай такси и катись в больницу — мать уже небось вся извелась.
— Да скажи ты по-человечески, что там с бабушкой! — выкрикнул я.
— А что с ней всегда бывает, как ты думаешь? Звони-ка, вызывай такси, — отрезал отец.
Я нехотя вышел за дверь и стал звонить из холла в городской таксомоторный парк. А отец тем временем орал: «И чтоб я больше не видел, как ты являешься домой в такую растреклятую позднь!» Но что-то ему явно мешало разъяриться окончательно: он орал озабоченно и даже вроде бы сдержанно. Да-да, у него что-то еще было на уме. Я положил трубку и начал подыматься по лестнице. Вот тут-то отца и прорвало. Он выскочил из гостиной и в полный голос зарычал:
— Нечего тебе наверху делать!
— Да я просто подожду там такси.
— А я говорю, нечего тебе наверху делать!
— Да умыться-то мне можно, по-твоему, или нет? — спросил я отца и прислонился к стене, пытаясь изобразить смиренную рассудительность.
— Съездишь и чумазый, — откликнулся отец. — А наверху тебе делать нечего. Хватит, напрятал и нахватался там чего не надо!
— Про что это ты толкуешь-то? — скорчив изумленную гримасу, спросил я.
— Сам небось знаешь, про что я толкую, — отозвался отец. И рявкнул: — Ты почему не отправил материно письмо?
Я похолодел.
— Ну, чего молчишь? Или оглох?
— Какое письмо? — пролепетал я.
— Какое письмо? Какое письмо? — сморщившись в злобной насмешке, передразнил меня отец. — А ты брось придуряться-то. Небось получше моего знаешь, какое письмо. Которое мать дала тебе отправить в «Час домашней хозяйки», вот какое!
Я отшатнулся, чувствуя, что на лице у меня застыло паническое выражение, и пытаясь мгновенно сообразить, сколько моих преступлений им уже известно, если они обнаружили матушкино письмо.
— Я же ей говорил, что я его послал!
— Черта лысого ты послал! Оно у тебя в сундуке. А тебе его дали, чтобы послать, растреклятый ты лентяй!
Я немножко приободрился, надеясь, что отец припишет все только моему лентяйству, и с подчеркнутой беспечностью сказал:
— Да послал я его. А в ящике был черновик.
— Какой еще растреклятый черновик? Это материно письмо. И не мог ты его послать, раз оно валяется у тебя в сундуке!
Я спустился на одну ступеньку, чтобы подойти к отцу поближе, и сказал ему нарочито спокойным, растолковывающим тоном:
— В мамином письме было очень много ошибок. Понимаешь? Ну, и я подумал, что если я его перепишу — перепишу без ошибок, — то к нему отнесутся внимательней, вот и все.
— А кто тебя просил его переписывать? И кто тебя просил его вскрывать? Ты бы лучше научился держать свои вороватые руки подальше от чужих вещей. Понял? И скажи-ка мне заодно, откуда у тебя столько календарей?
— Каких календарей?
Этот вопрос вырвался у меня автоматически — так дергается нога, когда невропатолог стукает человека по колену своим молоточком. У меня просто не было времени, чтобы придумать какой-нибудь запутанный ответ или убедительно соврать. Отец глубоко вздохнул и принялся теребить размочаленный ремень на брюках.
— Ты у меня допереспрашиваешься, голубчик, я тебе устрою растреклятую жизнь, — процедил он. — Какие календари! Знаешь небось, какие! Ты не думай, что я не толковал с советником Граббери, потому что я толковал. Он мне все про тебя рассказал. А ты меня выставил на треклятое посмешище, потому что за все хватаешься своими вороватыми ручищами. Где мой разводной ключ из гаража? Тоже небось начнешь спрашивать, какой?
— Ничего я не начну спрашивать! Ты сам-то подумай — ну на кой мне твой разводной ключ?
— А на кой тебе две сотни ихних растреклятых календарей? И на кой тебе растреклятые гробовые таблички? Ты просто повредился в уме, вот и весь сказ.
Я понял, что меня может спасти только ярость.
— Еще бы не повредиться! — заорал я, спустившись в холл и подступая к отцу вплотную. — Я не хотел работать у Граббери с Крабраком, а ты меня заставил. Ты заставил — ты во всем и виноват!
— А ты у меня доорешься, растреклятый щенок! — зарычал отец. — Я тебе враз язык-то оторву!
— Господи, спаси и помилуй, — пробормотал я, машинально закрывая рот,
— Лучше пусть бы он уму-разуму тебя поучил, — сказал отец. — А то, вишь, спаси его и помилуй, ровно растреклятую молодую девицу. — Отец уже остывал, как изъярившийся дотла вулкан. Я сел на ступеньку и обхватил голову руками, чтобы он пожалел меня, несчастненького, и ушел. Он и повернулся уходить, но напоследок проворчал: — Может, хоть мать добьется от тебя какого-никакого толку. И не вздумай орать на нее, как ты на меня орал, а то я повыбью из тебя эту растреклятую дурь. — Он подошел к двери в гостиную, взялся за ручку и принялся вертеть ее туда-сюда, придумывая, как бы закончить разговор нормальным тоном, без крика. Я попытался ему помочь.
— Говорил ведь я тебе, что не хочу работать у Крабрака и Граббери.
— Да ты, нигде не хочешь работать, — отозвался отец. — Тебе бы в самый раз до смерти сидеть на моем горбу. Скажешь, нет?
— Конечно, нет. Я и сам заработаю себе на жизнь.
— Это как же?
— Комические пьесы буду писать, — невнятно пробурчал я.
— Пьесы можно вечером писать, а днем надо работать, — сказал отец. — Кто, по-твоему, займется нашим растреклятым семейным делом, когда меня не будет? Ты об этом-то подумал? — Он ткнул большим пальцем в сторону гаража, и мне пришла на ум наша с Артуром сценка насчет семейного бизнеса Иосии Блудена. Но пойми же, отец, у каждого человека свое призвание, вспомнил я. А вслух сказал:
— Ты же двадцать раз говорил, что не нуждаешься в моей помощи.
— Потому что ты лентяйничал, — отпарировал отец. — И я, как проклятый, управлялся один. Ведь кто-то должен содержать семью.
Отец, посмотри в окно. К нашему дому приближаются какие-то люди.
— Ну, ты же еще не собираешься на покой, верно? — с натужной шутливостью сказал я. Отец неприязненно поморщился и ушел в гостиную. Когда дверь закрылась, я встал со ступеньки и поднялся наверх.
— Да держись подальше от бабушкиной спальни, понял? — ядовито крикнул из гостиной отец.
Я на цыпочках вошел в свою комнату и сразу бросился к Уголовному сейфу, убеждая себя, что тревога была ложной. Но сейф явно открывали: он стоял, небрежно и косо полузадвинутый под кровать, и марки на его крышке не было. С невольным облегчением подумав, что теперь мне нечего скрывать от предков, я выдвинул сейф на середину комнаты, открыл крышку и заглянул внутрь. Календари лежали на месте, но кто-то в них рылся. Матушкино письмо исчезло. Я пошарил под календарями рукой — до пачки счетов, которые отец поручал мне отсылать клиентам, предки, видимо, не добрались. Торопливо разворошив календари, я первым делом взял счета и сунул их в карман. Открытки от Лиз и «Рассказы для мужчин» предки не тронули, а в письмах Ведьмы, похоже, рылись. Я бегло просмотрел их и безжалостно испепелил из огнемета всю эту сладкую Ведьмину бестолковщину, а заодно уж и саму Ведьму.
А потом, сидя на кровати, попытался представить себе, как мой амброзийский отец приглашает меня в библиотеку для откровенного мужского разговора. Но из этого у меня ничего не получилось, и тогда, заглянувши мысленно в свое будущее, я увидел себя — совершенно ясно увидел — на городском вокзале, сел в лондонский поезд, доехал до Лондона, зашел к Бобби Буму, договорился с ним о совместной работе и отправился обедать бобами в томатном соусе. Тут я снова вынул бумажник и пересчитал деньги — у меня осталось восемь фунтов двадцать семь шиллингов.
Я достал из кармана Бумово письмо, разгладил его на колене и прочитал — в сотый, наверно, раз. Дойдя до слов Однако несколько парней регулярно присылают мне свои произведения, я вскочил, вытащил из-под комода наш старый чемодан и вывалил оттуда стопку покрывал да несколько джемперов, которые мама хранила там в полиэтиленовых пакетах. Потом выдвинул ящики комода и собрал в кучу свои рубашки, носки и носовые платки. Бросив все это на кровать, я достал из шкафа выходной костюм, сложил его, не снимая с плечиков, вдвое и аккуратно расстелил на дне чемодана. Потом заглянул в Уголовный сейф: календарей у меня должно было остаться около ста семидесяти штук. Я запихал их грудой под костюм, но потом опять вынул и принялся упаковываться всерьез, прокладывая календарями каждый слой одежды. Когда я покончил с этим, крышку чемодана закрыть было невозможно. Вынув две рубашки и один календарь, я снял с него бурый конверт, прислонил календарь к стене за коронационной коробочкой на каминной полке, а конверт бросил в камин. Потом уселся на крышку чемодана и запер ее. Ведьмины письма и открытки от Лиз я сунул в карман плаща, а остальной бумажный хлам оставил на память предкам в Уголовном сейфе.