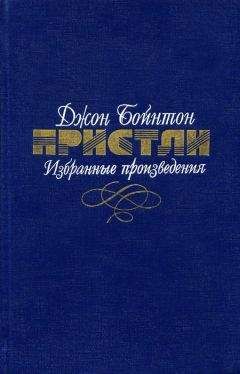Иван Цанкар - Словенская новелла XX века в переводах Майи Рыжовой
Он собирался уже вздремнуть, как вдруг услышал поблизости голоса. Прислушался: это были Тони и Марта. Они шли по траве, старый Чизмазия видел их, но они его не могли заметить. Трава была высокая, в садах еще не косили.
— Тут, — сказал Тони и уселся в траву под яблоней, метрах в десяти от отца, притаившегося за соломой. Марта постояла минуту, оглянулась на соседний сад, направо, налево и тоже присела в траву рядом с мужем. Она прислонилась к плечу Тони, сорвала крупную белую ромашку, которыми зарастают весной луга и которые цветут и в садах.
Оба молчали. Рука Марты обрывала лепестки цветка, словно считая. Тони смотрел на опадающие белые лепестки, улыбался, как и все последнее время, и наконец сказал:
— Он или она?
— Нет, — ответила Марта, — я не про это.
— Нет, — улыбнулся он, — признайся, что про это.
— Ну ладно, — согласилась она, — пусть будет по-твоему.
— Кого предсказал цветок? Мальчишку?
— Нет, не мальчишку.
— Знаю, вышло, что будет мальчишка, ты только не признаешься.
— Ну пусть будет так, если хочешь. Выходит, что мальчишка.
— Я ведь знаю, будет Тони, — сказал он с живостью.
— Нет, почему Тони. Назовем его как-нибудь по-другому.
— А разве это плохое имя?
— Не знаю, — ответила она. — Если много раз подряд повторять, получается некрасиво. То-ни-то-ни-то. Вот повторяй так и послушай сам.
Тони, наверное, несколько раз повторил про себя свое имя, а потом сказал:
— Что ж, можно назвать и как-нибудь по-другому. Например, Марко, как зовут отца.
— Это тоже некрасивое имя.
— А какое красивое?
— Не знаю, — ответила она, но, чувствуя, что он раздосадован, добавила: — Но можно назвать и Тони. Это мне только так показалось, будто оно некрасиво звучит. А как назовем, если будет девочка?
— Нет, девочки не будет, — возразил Тони убежденно. — Я наверное знаю. Будет мальчишка. — Он задумался, а потом добавил: — Если все-таки будет девчонка… ну что ж, и девчонка — тоже неплохо, а если она будет на тебя похожа, мы и назовем ее в честь тебя.
— Марта?
— Да, — кивнул он. — Это имя мне всегда нравилось.
— Еще тогда, когда ты бегал за мной? — засмеялась она, взглянув на него.
— Бегал! — воскликнул он. — Почему бегал, просто ты мне нравилась. Ну а если бы я даже и бегал за тобой. Что ты получила от того, что была замужем за другим? Ровно ничего! Двое детей у тебя, а ни земли, ничего другого он тебе не оставил.
— Землю его старики должны дать детям.
— Дадут ли еще?
Снова наступило короткое молчание.
— Спать хочется, — проговорила наконец Марта.
— Ложись и спи, — ответил ей Тони.
Она легла в траву, а он все сидел и смотрел ей в лицо.
— Когда придет время выгонять коров на пастбище, — сказал Марта сонно, — пусть гонит отец.
— Нет, пусть сегодня это сделают Барица и Тинек. Отцу надо немного отдохнуть.
— А от чего ему отдыхать? — спросила Марта. Тони ничего не ответил, и она продолжала: — За что он меня так ненавидит? Ведь я ему ничего плохого не сделала. Стираю ему, варю, угождаю во всем, не кричу на него.
— Эх, — махнул рукой Тони. — Что ты хочешь… Старый человек не может быть другим. Но он добрый, только иногда привередничает.
Больше они ни о чем таком не говорили. Казалось, будто Марта задремала. Тони прислонился к яблоне, и старый Чизмазия видел, как у него сами собой закрылись глаза.
Старый Чизмазия приподнялся и ползком обогнул копну соломы, чтобы его не заметили. Больше он не мог оставаться в этой приятной тени.
«Перво-наперво, — сказал он сам себе, — я не погоню коров на луг. Пусть дети гонят». Потом его обожгла мысль: «Будет ребенок!» Так вот, значит, в чем дело. Ребенок, раздумывал он дальше. Вообще-то в этом не было ничего страшного, наоборот, даже приятное что-то. Сколько раз старый Чизмазия сокрушался, когда Тони не хотел жениться: дом перейдет к чужим людям. Имя его умрет. К чему заводить большое хозяйство, если не знаешь, чьим оно потом станет. Но когда Тони женился и взял в дом вдову с двумя детьми, старик еще пуще встревожился, хоть ничего и не сказал сыну: вдруг Марта не захочет больше рожать, ведь у нее и так уже двое детей. Кроме того, она может рассчитывать, что дом и земля достанутся ее детям.
Теперь оказывается, что ребенок все-таки будет, что род старого Чизмазии не прекратится. Но старик этому не радовался. Может быть, он и обрадовался бы, если бы в подслушанном разговоре не уловил еще что-то такое, чего он сразу не мог осмыслить.
После этого он старался как можно меньше попадаться на глаза сыну и Марте. В его сердце зародилось что-то вроде неприязни к ним.
Пришло время Марте родить. Это была вершина Тониной радости. И его беспокойства одновременно. В первые месяцы Мартиной беременности он поглупел от счастья. Не разрешал ей работать. Позднее Марта вообще не смела ни к чему притронуться. Все делали Тони, отец и маленькая Барица. Барицу поставили к очагу, и она стряпала с Тониной помощью; кушанья, которые они умели готовить, следовали друг за другом с отчаянным однообразием. Старый Чизмазия принял в свое ведение хлев, он должен был менять подстилку и выгонять скотину на пастбище в те дни, когда коров не запрягали для работы. А Марта сидела на пороге и грелась на солнышке; осенью она иногда выходила в поле, но к работе прикоснуться не смела, хотя была и не прочь поработать. Тони все время крутился около нее, посматривал на ее пополневшую фигуру, заглядывал в лицо — подурневшее, в пятнах, — где только глаза сохранили свой прежний блеск.
Марта должна была и вправду родить. Повивальная бабка вертелась возле дома, как кошка возле печки. Марта все еще расхаживала по дому, видно было, как она входила в кухню, как останавливалась на минуту, выйдя во двор. Ей хотелось взяться за работу, только бы муж позволил. Но он выпроваживал ее в горницу, говоря, что они управятся сами.
Действительно, они сами со всем управлялись. Только Тони в эти дни ни на шаг не отходил от дома. Отцу пришлось распахать небольшой клочок земли, Барица погоняла коров, а Тинек сидел неподалеку у костра — Тони казалось, что будет лучше всего, если в это время все уйдут из дома.
Как-то бабка сказала:
— Думаю, что роды будут тяжелые.
Тони уставился на нее, словно не понимая.
— Как тяжелые?
— Так, — ответила она неопределенно. — Мне так кажется. Ее мать тоже тяжело рожала, и она сама после первых двух детей едва осталась жива. Я ей тогда еще говорила, что ей больше нельзя рожать.
Тони смотрел на нее, не отрываясь. Он с трудом понимал ее слова, но ясно чувствовал, что приближается опасность, и от этого терял рассудок. Он возненавидел бабку, старуху с холодным, отчужденным лицом. Ее ничто не волновало, как не волнует могильщиков смерть человека, по которому плачет вся деревня. С таким же холодным, почти враждебным видом она присутствовала при рождении половины жителей деревни. Она не понимала, с какой любовью и радостью он ожидал это событие, будто от него зависела вся его жизнь. Жизнь ему впервые улыбнулась, и он радовался, как только умеют радоваться люди, ходил с сияющим лицом, и ему казалось, что все-таки жить на свете стоит и что жена вносит в жизнь что-то особенно хорошее.
Он размышлял так весь день, пока Марта наконец не слегла. Бабка уже не выходила из дома, а сидела тут же, что-то варила для Марты и для себя, но лицо ее и теперь оставалось все таким же холодным, бесчувственным, а глаза — равнодушными, отчужденными, словно ей было ненавистно то маленькое счастье, которое ожидает Тони.
Потом все следовало одно за другим с какой-то необычной поспешностью, хотя события и заняли целых два дня. Зачем-то нужно было идти за врачом, бежать за священником — на всякий случай, как сказала бабка. Старик и дети с испугом смотрели на все это, а Тони то и дело куда-то убегал и возвращался с такой быстротой, будто от него самого зависела помощь Марте и ребенку. Глаза повитухи оставались все такими же холодными, чужими, неприветливыми. Лишь когда пришел священник, она набожно опустилась на колени и стала молиться. Только это и вывело ее из состояния равнодушия.
Итогом этих двух дней, проведенных Тони в лихорадке и тревоге, был мертвый ребенок с хохолком волос на голове, лежавший неподвижно на постели. Бледное, маленькое личико выражало спокойствие, жизнь еще не успела его растревожить. Маленький Тони лежал на постели, а в комнате стояла гробовая тишина.
Старый Чизмазия посмотрел на ребенка, покачал головой, что-то пробормотал и вышел. Тинек постоял некоторое время возле маленького, тельца, не в силах понять, что это его брат. А Барица старалась быть подальше от этого братца: она не хотела его даже видеть. Тони и сам лишь мимоходом взглянул на своего потомка, который умер, не успев даже увидеть льющийся в окна свет.