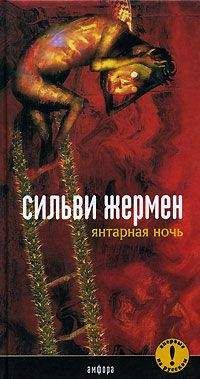Сильви Жермен - Дни гнева
Ради них Гюге Кордебюгль совершил еще один набег на сады. Но воровал он не белье, а цветы. Принес целые охапки пионов, роз и ирисов, белых и красных лилий. А еще наломал сирени и даже цветущих веточек яблонь и слив; их смешанный аромат витал в спальне. Гюге разбрасывал цветы поверх простынь, чтобы двуединое тело, распростертое на кровати, утопало в кружевах и лепестках. В неге и белизне.
Гюге дивился непрестанным превращениям, которым он был свидетелем. Он видел этих двоих летней ночью, среди темной травы и белых, излучающих молочный свет простынь. Видел, как они устремлялись друг к другу, обнимались, сплетали руки и ноги. Как сливались и размыкались, будто вновь и вновь умирали и оживали, то в бешеном, то в замедленном ритме сталкивая чресла, сжимая руки, захлебываясь вздохами и стонами. Как соединились и разделялись две половинки единой плоти, упоенной вожделением, наслаждением, наготой, восторгом этого повторяющегося слияния и раздвоения. Гюге глядел на них с жадностью, до боли в глазах. Но однажды в порыве злобы предал летнее видение, выдал тайну. Поддавшись мести и досаде, выложил ее, как самый жалкий доносчик, да еще тому, кому и вовсе не след о ней знать. Выпустил тайну, как спускают разъяренного цепного пса, уязвил ею сурового хозяина, сбил спесь с гордеца. Хотя, в общем-то, Гюге не столько разоблачил увиденное, сколько выплеснул свою боль, горькую, мучительную, доводившую до безумия боль, которую испытал, глядя на представшую пред ним красоту. Она точила его днем и ночью. И стала его сокровищем, еще большим, чем потайная комната. Сильный этим сокровенным богатством, он и унизил старого Мопертюи.
Тот же разорвал и разлучил половинки единой плоти. Кончилась осень, прошла зима. Уже и весна вызревала в лето. Всей земле, каждому дню не хватало красоты, мучительного восторга красоты. Но вот вернулся Симон, вместе с волом-призраком. То был не просто призрак — злой дух. И злая плоть. И Симон убил его, разрубил на куски, содрал с него шкуру и, водрузив на плечи его тушу, как доспехи, отнял у него колдовскую силу. Гюге видел Симона в полузверином, получеловеческом облике, блестящим от пота и крови, облеченным завоеванной волшебной силой. Затем новое превращение: тело Симона обратилось в пламя, могучее, ревущее пламя. Гюге видел, как побагровело утреннее небо, покрылись пурпуром весенние деревья. Потом тело стало тенью, словно скормив огню всю плоть и кровь. Тень раздвоилась, вела за руку свое подобие, такое же опустошенное и изнуренное.
Ныне это двойное существо отдыхало, а он, Кордебюгль, оберегал его сон, сон на пороге неведомого. Он усыпал ложе спящих цветами и ждал. Сам не зная чего. Ждал, пока они проснутся, желая в то же время, чтобы это пробуждение никогда не наступило. Ждал нового превращения волшебной плоти.
ВИСЯЧАЯ СКАЛА
После похорон Толстухи Ренет все отправились в деревенский трактир. Одна Эдме вернулась в церковь помолиться облаченной в синее покрывало Мадонне, призвавшей к себе чудесное дитя, которое полвека тому назад ею же было даровано.
Эдме не плакала, печаль ее была слишком высока, чтобы упиваться слезами. Ей случалось заплакать, когда дочь угасала. Но в то утро, когда Рен умерла и Эдме заглянула в лицо усопшей, слезы ее высохли, ибо ни страданий, ни смерти больше не было. Все иссякло: земное счастье и земное горе; Милосерднейшая Матерь Божия взяла за руку ее дочь, чтобы отвести к престолу Всевышнего, она же, мать земная, старуха, простирала руки в пустоту, тишину и темноту. Протягивала небу свою скорбь, дабы она была облегчена, очищена от отчаяния. Эдме знала, что души умерших не следует тревожить воплями и рыданиями, чувствовала, что отлетающая душа хрупка и робка и живые уже не могут быть ей провожатыми. Для них таинство исчезновения остается запретным, и они должны удовольствоваться знанием, что души их близких будут доверены тем, кто осенен Господней благодатью, постиг это таинство и пребывает в нем. Поэтому Эдме и вверяла дочь Той, что взыскана среди всех мужей и жен и от века зовется Благодатной.
Эдме не плакала. Она старалась примирить свою скорбь с верой, примирить мрак и прозрачность, безмолвие и пение, настроить свое оставшееся на земле сердце в лад с душой покойной дочери. Любовь оставалась ее уделом, но теперь ее осиротевшему, обездоленному сердцу любить будет труднее.
Вдовец Эфраим тоже держался одной лишь былой любовью. Усевшись вместе с сыновьями за самый большой стол в трактире, он заказал сливовой водки. Так же пил он в тот давний вечер, когда пришел просить у Жузе Версле руки его дочери Рен. Нынешним весенним днем он ничего не просил. Руку Рен у него отняли. Он не просил — он отдавал ее. Он был готов, как Эдме, считать утрату добровольной жертвой. Но для этого надо было научиться забвению, отречению от себя, от своего мужского естества и желания. Вот он и пил, чтобы поскорее погрузиться в забытье, отрешиться от сознания, от еще не иссякших сил, от все еще живых, но отныне тщетных желаний. Надо было поскорее отринуть память, провалиться в полное беспамятство, задушить в зародыше возмущение и вожделение плоти.
Эфраим молча, залпом опустошал стакан за стаканом, а сидящие рядом сыновья не мешали ему пить, сколько хотелось. Никто из них не дерзнул бы остановить отца сейчас, после похорон. Всполошился только Луизон-Перезвон, напуганный тем, что отец, как заведенный, раз за разом опрокидывал в рот стакан с водкой. Он решил, что тот хочет убить себя прямо здесь, на глазах у сыновей, пить, пока не заглохнет сердце. Но Эфраим хотел только заглушить боль, убить желание.
Тем временем остальные хуторяне сидели за столами, ели, пили и говорили между собой. Поминали Толстуху Ренет, перебирали прошлое, восходя к истокам жизни той, что сошла в землю. Попутно вспоминались другие умершие, их жизнь и смерть, их похороны. Вновь зазвучали имена Марсо, Жузе, Фирмена Фоллена, Пьера и Леи Кордебюгль, Гийома Гравеля. Всплывали из мрака их образы, воспоминания сплетались, одно влекло за собой другое. Память крошечной общины била ключом. Время словно потекло вспять. Община разрасталась, пополнялась давно умершими, прежними уроженцами Лэ-о-Шен, соседних хуторов и деревни. Прибывала паства, собиралась целая толпа, целое племя. Живые, призывавшие мертвых, переходили вброд реку настоящего, чтобы с весельем или плачем углубиться в минувшее. Порой они прерывались, чтобы повздыхать, покачать головами, заказать еще выпивки и с новым воодушевлением пуститься в беседу.
И только за столом Мопертюи молчали. Ненарушимая траурная тишина повисла здесь. Каждый смотрел невидящим взглядом в стакан или на свои руки. Эфраим выпил много больше того, что может выпить один человек. И наконец боль отступила, желание было сломлено, сердце замерло. Все словно зависло над бездной. Эфраим отставил стакан, встал, опираясь на плечи сидевших по сторонам от него Скареда-Мартена и Глазастого Адриена, и громким, хриплым голосом произнес: «На хутор я больше не вернусь. Никогда. Отведите меня к монахам на Висячую Скалу. Сегодня же. Такова моя воля. Слышите?» Сыновья слышали и понимали его. Они понимали, как страшно было отцу вернуться в дом, оставленный матерью, лечь в опустевшую постель. Кроме того, они расслышали в словах отца отказ работать на Амбруаза. Старик, проклявший старшего сына, ударивший его, превративший в батрака, в раба своей прихоти, оставался в живых. Старик, сделавший жизнь младшего столь тягостной, что в конце концов тот не вынес. Старик, разлучивший Камиллу с Симоном, Камиллу посадивший под замок, а Симона изгнавший. Заставивший его уйти так далеко, что сердце Толстухи Ренет, оберегавшее сына на расстоянии, изнывавшее от беспокойства, разорвалось от муки. Старик, без устали косивший своей страшной ненавистью, яростью и местью счастье тех, кто попадался ему на пути.
Сыновья услышали все, что сказал и чего не смог высказать отец, что причиняло ему боль. Услышали и другие, сидевшие за соседними столами и перебиравшие то, что сохранилось в глубинах памяти. Услышали и смолкли. «Слышите?» — повторил Эфраим. Но, прежде чем сыновья нашли в себе силу ответить, рухнул всей тяжестью тела на стол. Ударившись лицом о дощатую столешницу.
Эфраима уложили на лавку у стены, и Утренние братья пошли искать по деревне, кто бы одолжил телегу и лошадь, чтобы отвезти отца в аббатство на Висячей Скале. Так он велел: отвезти сегодня же. Телегу нашли, положили в нее Эфраима и отправились в путь. Фернан-Силач, Глазастый Адриен и Глухой Жермен сели рядом с отцом. Скаред-Мартен правил. Другие братья остались в деревне поджидать Эдме: из церкви она непременно должна была зайти в трактир передохнуть.
Эфраим проснулся у дверей аббатства. Он велел сыновьям возвращаться в деревню, а оттуда домой, на хутор. Прибавил, что сам останется навсегда здесь, в пустынной обители, в приюте забвения, а главой семьи вместо него будет Фернан-Силач. Потом всех поцеловал и со всеми распрощался. Сыновья поехали назад. Эфраим же постучал в монастырскую дверь. Его впустили, и дверь за ним закрылась. Вдовец Эфраим пришел сюда искать отрешения. Монахи приняли его, и он стал жить с ними. Поступая так, он выполнял, что должно, подобно тому как когда-то отрекся от прав старшего сына и от наследства ради любви к Толстухе Ренет. В прошлый раз он отверг волю отца, ныне — собственную волю.