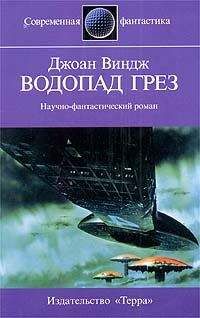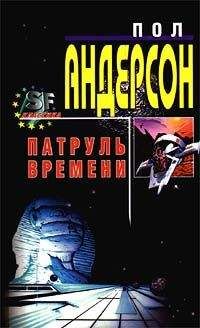Филип Рот - По наследству. Подлинная история
Когда я сказал, что успешно перенес операцию аортокоронарного шунтирования (покамест удалось обойтись пятью шунтами), он опешил.
— Так с кем же я разговаривал?
Я объяснил, что разговаривал он со мной, что я звонил ему так же, как и сейчас, с больничной койки. Заверил, что иду на поправку, сказал, что хирург рассчитывает к концу недели отправить меня домой.
Тут он взвился, чем немало меня удивил.
— Помнишь, когда ты учился в колледже, маму положили на операцию, а мы от тебя это скрыли. Помнишь, что ты сказал, когда узнал, что мы тебя обманули?
— Нет, не помню.
— Ты сказал: «Семья мы или не семья?» Вломился в амбицию. Сказал: «Чтобы вы никогда больше не пытались меня „щадить“». Задал нам по первое число.
— Послушай, ну не пришлось тебе дрожать от страха, пока я лежал на операционном столе, — чем плохо?
— Сколько продолжалась операция?
Часа два жизни съела, сообщил я.
— К чему тебе было изводиться два часа в ожидании, — сказал я. — Мало тебе своих трудностей.
— Это не тебе решать.
— Герм, тем не менее я взял решение на себя, — сказал я и засмеялся: хотел перевести разговор в шутливый тон.
Но он не развеселился, а серьезно, чуть ли не грозно сказал:
— Так вот, никогда больше так не поступай, — можно подумать, у нас впереди еще целая жизнь.
Пока я лежал в больнице и в первые несколько недель мало-помалу отходил от операции, я ежедневно и ежевечерне молился — и молитвы воссылал напрямик отцу:
— Не умирай. Не умирай, пока я без сил. Не умирай, пока я не смогу сделать все, как следует. Не умирай, пока я так беспомощен.
Порой, когда я говорил с ним из больницы по телефону, мне приходилось сдерживаться, чтобы не сказать это вслух. И сейчас мне кажется, что он понимал, о чем я безмолвно умолял его.
— Как ты себя чувствуешь? — спрашивал я его.
— Я-то? — отвечал он. — Лучше не бывает. Закатил обед: Эйбу стукнуло девяносто четыре. Ингрид приготовила свиной рулет и картофель с петрушкой. Пришли Сет и Рут, Рита, Эйб, Ингрид, мы с Лил. Отлично посидели. Эйб, слава тебе Господи, может есть. Он и ходить может, и есть, а на следующий день даже вспомнил, что мы устроили ему день рождения.
Месяца полтора спустя, когда я наконец смог навестить его, он снова меня удивил — на этот раз тем, что держался так, словно в чем-то провинился передо мной. Я не мог взять в толк, что его так тяготит, еще и потому, что был донельзя удручен переменами, которые произошли в нем со времени нашей последней встречи. Можно было бы сказать, что с той встречи прошел год, но, глядя на него, можно было бы точно так же сказать, что прошла целая жизнь. Он — подумать только: ведь не так давно он закатил обед в честь дня рождения Эйба — сам превратился в одного из тех старцев, чей возраст невозможно определить: тело усохло, лицо бог знает на что похоже, на глазу черная повязка, вид отрешенный, даже я узнал бы его с трудом. Он сидел на своем обычном месте в углу дивана, подпертый со всех сторон подушками, — казалось, ему не сдвинуться с места, разве что кто поставит его на ноги. У него еще не зажил и очень болел палец ноги — он сломал его месяц назад, когда снова потерял сознание в ванной и упал. Позже я понял, что даже с помощью недавно купленных ходунков самостоятельно он может сделать шага два, не больше.
На секретере напротив дивана стояла увеличенная фотография полувековой давности, снятая на побережье Джерси допотопным ящиком; мы с братом вставили такие же в рамки — они стоят на видных местах в наших домах. Мы позируем в купальных костюмах, три Рота, выстроившись по росту, во дворе меблирашек на Брэдли-бич, где наша семья каждое лето снимала на месяц спальню и — на паях с соседями — кухню. Фотография сделана в августе 1937 года. Нам соответственно — четыре, девять и тридцать шесть. Наша троица поднимается все выше, образуя букву V–Victory, Виктория, Победа; ее острый низ — две мои крохотные сандалии, мусукулистые плечи моего отца, между которыми строго посередине озорная рожица Сэнди, — две внушительные засечки литеры. Да, V — Виктория, Вакации, Вертикаль, прямая и несгибаемая! Вот она, мужская линия нашего рода, невредимая, счастливая поднимается вверх от младенчества к зрелости!
Связать плотного, литого мужчину на снимке с воплощенной немощью на диване было и возможно, и невозможно. Соединить этих двух отцов, как я ни напрягал воображение, оказалось задачей, ставящей в тупик, даже страшноватой. Тем не менее я вдруг почувствовал (или заставил себя почувствовать), что могу очень четко вспомнить (или заставить себя подумать, что вспомнил) тот миг полвека тому назад, когда этот снимок делали. Я мог бы даже поверить (или заставить себя поверить), что нам лишь мнится, будто наши жизни протекают во времени, на самом же деле все происходит единовременно, и что сейчас я с отцом и на Брэдли-бич, где он высится надо мной, и здесь, в Элизабете, где он, разбитый болезнью, скрючился чуть ли не у моих ног.
— В чем дело? — спросил я, когда понял: от одного моего вида он так расстроился, что того и гляди заплачет. — Пап, я чувствую себя прекрасно, — сказал я. — Суди сам. Посмотри на меня. Ну посмотри же. Пап, что с тобой?
— Мне следовало быть с тобой, — голос у него пресекался; что он говорил, можно было только угадывать — так сковал его рот паралич. — Мне следовало быть там! — повторил он, и в голосе его прорвалась ярость.
Он хотел сказать: рядом со мной, в больнице.
Умер он три недели спустя. Двенадцать часов — с полуночи 24 октября 1989 года до полудня следующего дня, — пока длились его муки, он, хотя дыхание его вырывалось со страшным клокотанием, бился за каждый вздох, в последний раз выказав упорство и непреклонность, не оставлявшие его на протяжении всей жизни. Да, это стоило видеть.
В день его смерти, когда я с утра пораньше пришел в реанимацию, куда отца примчали прямо из дому, меня встретил его лечащий врач — он собирался принять «срочные меры» и подключить отца к аппарату искусственного дыхания. В ином случае не останется никакой надежды, однако, добавил врач, вам, я думаю, ясно, что аппарат искусственного дыхания не остановит развитие опухоли, а она уже начала разрушать дыхательный центр. Врач также сообщил мне, что, если подключить отца к аппарату, по закону отключить его будет нельзя, разве что он снова сможет дышать самостоятельно. Решение следует принять немедля и — так как с братом связаться невозможно: он уже вылетел из Чикаго — в одиночку.
И я — притом что не кто иной, как я, растолковал отцу условия волеизъявления и убедил подписать его, — растерялся. Как мог я отказаться подключить его к аппарату, положить конец его мучительной битве за жизнь? Как мог я взять на себя решение окончить жизнь отца: ведь жизнь дается нам всего лишь раз? Вместо того чтобы воспользоваться его волеизъявлением, я готов был пренебречь им и сказать: «Все, что угодно! Что угодно!»
Я попросил врача оставить меня наедине с отцом, если только можно остаться наедине в сутолоке реанимационного отделения. И пока я сидел и смотрел, как он борется за жизнь, старался думать лишь о том, во что превратила его опухоль. Это было нетрудно: вид у него был такой, точно его сто раундов кряду метелил Джо Луис[53]. Я представил себе, какие муки его ожидают, даже если респиратор не даст ему умереть. Я все-все понимал, и тем не менее прошло много времени, прежде чем нашел в себе силы, придвинувшись к нему как можно ближе и прижавшись губами к его обвисшему, обезображенному лицу, прошептать:
— Пап, мне придется тебя отпустить: ничего больше сделать нельзя.
Он уже несколько часов был без сознания, не мог меня слышать и все равно, смятенный, ошеломленный, захлебываясь рыданиями, я повторял свои последние ему слова снова и снова, пока сам себя в них не убедил.
Ну а потом мне осталось только пойти следом за его носилками в ту палату, куда его увезли, и сесть рядом. Умирать — это труд, а он был трудяга. Умирать страшно, а мой отец умирал. Я держал его руку — она, по крайней мере, не изменилась; я гладил его лоб — он, по крайней мере, не изменился; я говорил ему много такого, чего он уже не воспринимал. К счастью, в то утро я не сказал ему ничего, чего бы он не знал.
В тот же день в нижнем ящике отцовского секретера брат обнаружил плоскую коробку, в которой лежали два аккуратно свернутых молитвенных покрывала. С талесами он не расстался. Их он не сбагрил в раздевалку «Y» и не отдал одному из внучатых племянников. Более старый талес я взял себе, в другом мы его похоронили. Когда гробовщик попросил нас выбрать костюм для погребения, я сказал брату:
— Костюм? Ему же не в контору идти. Нет-нет, никакого костюма — костюм ни к чему.
Саван — вот в чем его надо хоронить, сказал я: так хоронили его родителей, так обычай велит хоронить евреев. Все так, и тем не менее я задумался: что, если саван точно так же ни к чему? — ортодоксально верующим отец не был, сыновья его и вовсе люди нерелигиозные — нет ли в этом как претенциозной литературщины, так и взвинченного ханжества. Я подумал: до чего же ненатурально будет выглядеть такой трезвый городской житель, как мой страховщик отец, приземленный, прозаичный, в саване, — и в то же время понимал, что к этому и веду. Но так как мне никто не возражал и так как я не набрался храбрости сказать: «Похороните его голым», мы похоронили отца, завернув в саван наших предков.