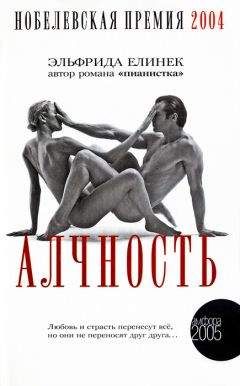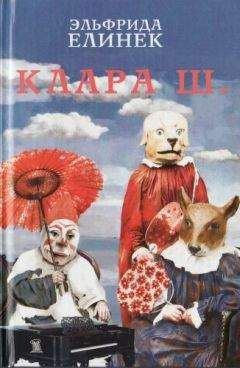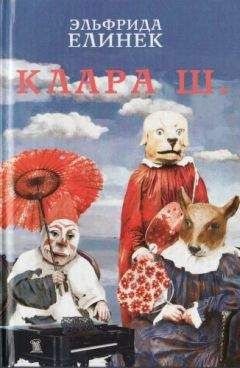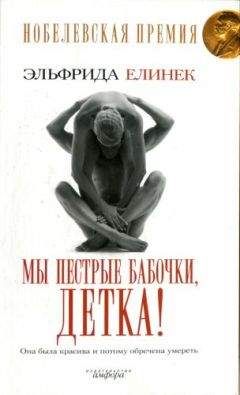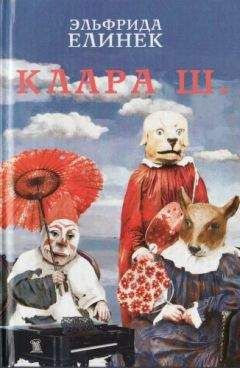Эльфрида Елинек - Алчность
Здесь, у подножия снежных Альп — а скоро он взберётся на гору ещё выше, по спирали, — мужчина в ярком спортивном костюме; он бежит так, будто скользит невесомо, как тень на камнях, в стороне от постороннего взгляда. Если вы меня спросите: такого не так-то легко обогнать, и после семи километров он всё ещё лёгок на подъёме. Это опять же типично: обеспокоенный, который еле удерживает под кожей свою задушенную тайную тревогу, зато его одежда сидит на нём как влитая, как вторая кожа. Мне нравится его энергичная воля. Но разве он не один из тех, кто вечно хочет зла и вечно совершает благо? Дух отрицания, который вечно говорит «нет», за исключением тех случаев, когда он говорит «да». Прелестно. Его постоянное недовольство мне тоже нравится. Так я составляю его по частям и могу судить о результате. Каждому своё. Что удовлетворило бы его, опять же нравится мне меньше. Так я сужу, а судья я беспощадный. Он давно хочет получить хоть что-нибудь в подарок, хотя бы целый дом, и я его понимаю. Остаётся только надеяться, что женщина, предназначенная им в порабощение, кем бы она ни была, подыграет ему, когда до этого дойдёт дело. Он приобрёл важное для его будущего знакомство, и теперь он его не упустит. Это будет нечто: послушный подавляет покорного. Успеха им обоим не добиться. Этот мужчина пошёл бы наперекор даже воде, если бы смог её найти, но вода окончательно заперта внутри, она сама по себе — очень пространное место, и оно растекается, тогда как мужчина, наоборот, ищет свои пределы. Никто их ему не укажет. Момент, теперь я вижу пределы, они стальные, с виду как перила, и притом передвижные. Он не сам их выставил, жандарм, это сделали его коллеги в столице, перед парламентом, чтобы отгородить проход, отделив народных представителей от народа, подчёркивая этой чертой: ты не наш, но не беспокойся, мы всё равно тебя хорошо представляем. Жандармский начальник встречает опаздывающих на службу наёмных солдат горькими словами, что сверхурочные больше не будут оплачиваться, потому что у страны нет на это денег, и господин Яниш принимает это известие Иова с виду покорно. Туда и дорога. Это мне тоже нравится. Что он может это принять. Мужчина должен быть решительно обузданным, но свои желания не укротит никто. Ему нужна поддержка, ибо он не находит их, свои собственные границы, и не спеша плутует и блудит, нет, блуждает и плутает по своему бытию. Так, воду ему тоже больше не найти, мы свели её в могилу. Земля — пара губ, которые сомкнулись над ней. Мужчина в своём сдержанном гневе не переместился бы туда. Ведь там уже вода, для него не осталось места. Земля заглатывает даже дома — вспомните об исчезнувшей шахте Лассинг и о последствиях! Дом, почти целиком ушедший в землю, вы ещё сможете частично осмотреть эту достопримечательность (часть, которая торчит из могилы), если соседи вас пустят; ещё видны обычные для этих мест ящики для цветов вместе с их яркими обитателями, которые между тем печально повесили головы. Вы можете ещё увидеть верхушки мебели, дорогие гости, игрушки, безделушки, накопившиеся со временем, но никто не находит времени полить цветы. Для этого пришлось бы прыгнуть на десять метров в длину и уметь дышать в грязи. Соседи не желают никаких приезжих, прибывших полюбоваться катастрофой, но теперь у них самих такое место, на котором приезжие хотели бы оказаться, лишь бы только посмотреть. Сами они не нашли бы это место, им приходится смотреть по карте и расспрашивать соседей, потому что туда, где было что-то, теперь завернуло Ничто, чтобы ни свет ни заря навеки упиться. Но в более прочном доме я мог бы чувствовать себя спокойно, думает мужчина, несмотря на всё, что происходит с домами и что может произойти с человеком. На пропавших не нужно смотреть с жалостью, ведь их больше не видно. Жандарм как раз планирует дополнительный чулан в подвале, под лестницей. Если он отсюда что-то уберёт, а там что-то пристроит — неотёсанную, грубую подвальную каморку, например, — тогда ничего, даже если это будет пустое помещение, Ничто, которое тоже требует стен, без которых не было бы никакого Ничто, без которых не было бы и целого дома, который сам есть лишь полое пространство, состоящее из себя самого, похожее на поляну в лесу, которое возникает, лишь обретя границы, которые мы составим из дерева или камня и только после этого уютно расположимся внутри. Не так ли и этот мужчина в своём внушающем уважение одиночестве: свои границы давно потерял и хочет с кем-то познакомиться, кто их ему снова покажет? Но на сей раз они должны включать в себя большую, чем до сих пор, область, пожалуйста. Мы бы рады были увидеть однажды его лицо, лицо жандарма, а не просто найти по описанию в розыске. А если бы он сам протягивал границы, не забыл бы он чего-нибудь в себе самом? Что ему нужно, чтобы он больше не держал свой светильник под спудом, а мог запустить им в красивое меблированное пространство? Если пространство не двинется с места, светильник угодит ему точно промеж глаз и потом упадёт на персидский ковёр, как раз туда, где дырка, прожжённая сигаретой. Из-за этой дырки ковёр нам так дёшево и достался. Нам же, законопослушным, незачем заходить так далеко, чтобы обрести свои границы. Они ужасны, поэтому, к счастью, они охраняются вооружёнными. Достаточно, если мы пробежим три часа, пока у нас не вывалится язык. Но полуголому марафонцу для этого не хватит и пяти часов, потом мы с ним почитаем газету, которая не хочет, чтобы границы пересекали иностранцы, если у них не забронирован номер в отеле или приют подешевле в наших крестьянских домах, в яслях для скотины. Эти три четвертушки строки, ни буквой больше — больше мне нечего подарить, — я посвящаю бедному мужчине из Шри-Ланка, которого вчера как единственного выжившего выудили из Дуная у Хайнбурга, остальные беженцы перевернулись на своей надувной лодке, утонули и исчезли. Специально изобрели инфракрасную камеру, чтобы контролировать границы. Людей, которые ищут защиты, видно в видоискателе, даже если они окончательно пали на дно и передвигаются ползком на брюхе. На этих человеческих коврах хотя бы нет прожжённых дырок, поскольку в данном случае мы сожгли ковёр целиком ковровыми бомбардировками; мы сильны во вкрадчивых манерах, которые применяем к любому чужому, которого должны погладить, убить и изъять. Остальные получат по зубам, а потом о них искрошат зубы наши реки, чтобы у нас с ними не было лишней работы. И на ковре из человеческого мяса уже никто не поскользнётся, люди получают поддержку, все они охвачены заботой, как наши родники, собранные и сброшенные в зарешёченные сборники. А если они там поднимут волнение, то сверху им будет и крышка. Мы снова вспомнили всё, что забыли о человечности, когда смотрели на скотину, а она на нас. И мы будем знать ещё больше, если посмотрим на чужих через этот прибор ночного видения, а они не будут нас видеть, потому что у них, со своей стороны, нет таких камер. Да. Даже если они распластались на земле, чужие, мы их всё равно видим: ага, значит, они там, наши собственные, единственные границы, уж мы их обнаружим, коли их однажды проложили. Самое позднее, когда партнёр гуляет на стороне с чужими, мы ему определённо можем показать наши границы.
Жандарм, которого мы, собственно, хотели описать до того, как забились в кусты, завёл себе специальные часы для бега с пульсомером и нож за большие деньги — ах нет, это не так, это же подарки одной женщины! Чтобы он мог дегустировать одного из этих бедняг, когда стоит на часах и знает, как их готовят. Жандарм человек информированный, но информация очень скупая: раньше здесь, прямо подо мной, была вода. В этой геоинформационной системе он ориентировался, этот турист и спортсмен. Этот человек закона — разумеется, своего собственного закона. Земля, вода, лес были неотторжимы, они имели, как и он, в высшей степени сложный круг задач и не должны были путаться, что когда делать. Теперь мы, к сожалению, природу потеряли; а когда мы её искали, мы практически одновременно наводили порядок. Вода в земле, лес на земле, вода не поверх земли, а лес не внутри воды, иначе вода была бы над нами, то есть она была бы превыше нас. Такие решения в политической, экономической и хозяйственно-технической области, с чрезвычайно далеко идущими последствиями, мне придётся принимать долгое время, если я пожелаю что-то сказать о природе. Иначе это не скажешь, потому что природы ведь больше нет, с какой стати она вдруг должна вернуться? Только для того, чтобы я могла взглянуть на неё поближе? Природа часто красноречива с нами, но слова из неё не выжмешь. Придётся надавить на неё, чтобы всё вышло наружу. Природу сейчас нигде не увидишь. Пожалуйста, дайте мне ваши выкладки, и на их основании я смогу написать о природе что-то совершенно новое, если вы всерьёз ждёте этого от меня.
В детстве жандарм со своим отцом иногда ездил на велосипеде в долину, они крутили педали вдоль ручья, а вода успокаивающе бурлила, только что сбежав с вершины горы, и, набрав разбег от своего истока, с изрядной высоты скакала по камням, своё собственное произведение, поскольку вся вода выходит из самой себя, поэтому она принадлежит самой себе и никому другому, и если мы имеем её, то лишь украденную и злоупотреблённую, что? Или нет? И сын прогуливался с отцом, я лично ещё помню это. Отец был приветливый, иногда даже добрый и покровительственный, как хижина в Альпах, совсем не то что метеобудка, про которую никогда не знаешь, что там к чему, — то девушка сверху, то опять парень, и невозможно решить, какой из двух вариантов тебе больше по вкусу. Только представишь, как вышеупомянутое лицо сидит у кого-то на лице голой задницей, свесив ноги поверх ушей, как две вишенки, слева и справа, и невольно думаешь: всё же лучше мальчик. У того всего больше. Может, отец, и жандарм тоже, оставлял желать лучшего в расцветке своего существа. Коли уж мы у воды: отец видится сыну однообразным, как будто в нём ничто не может отразиться, что можно было бы узнать, как будто его внутреннее было обеднено под давлением подъёма по службе и длительного исполнения долга, этим бывший сын маленьких людей должен был хорошо себя показать. Хотя у его сына потом было всё необходимое, это делается так: однажды оставить дитя без присмотра, потом снова строжиться, что совершенно справедливо, поскольку дитя, которое приносит утешение, упало с лестницы, ведущей в подвал. Строго смотреть за ребёнком, как можно чаще околачивать и подковывать, чтобы ноги были тяжелее. Это для его же пользы, поскольку отклонения в ориентации отца можно было заметить довольно рано, а именно по индексу прав животных. Ориентация справедлива по отношению к животным, если заявлены следующие пункты: возможность передвижения, свойства почвы, социальный контакт, климат в месте содержания (проветриваемость! освещение! Бог!) и интенсивность ухода (натаска! палка! камень! удар!). Для этого даются пункты, и их больше двадцати пяти, если ребёнок должен сдавать экзамены и родители, которые, как следует из фамилии, старше, должны их выдержать. Во время прогулки отец рассеянно кивает — ну, значит, он не будет тебя бить, хотя бы в ближайшие десять минут. Он, может, побьёт мать, это он любит ещё больше, но тебя не тронет. На сей раз нет. В следующий раз да. Поживём — увидим. Отец между тем умер, от рака. Разве не вчера это было, когда он, отец, в качестве упражнения по чтению заставлял мальчика читать в городе вывески? Мальчик смотрел, что лежит на витрине, только потом говорил название магазина. Неправильно. Разве существуют только те вещи, которые на виду, а? Даже леса не такое уж безусловное благо, потому что они ведь должны нас защищать, но, отводя опасность, растирают в порошок людей, посёлки и устройства, которые не придерживаются государственных мер или распоряжений. Да они лично снизойдут до этого, леса, если однажды выйдут из себя. Кто бы мог в них такое заподозрить. Им не больно видеть, как больно от этого вам, чей дом ещё недавно стоял на этом месте! Разве он не любил сына, отец, которому сын чуть на голову не сел, после того как отец нарочно наступил ему на ногу? Мол, сын должен поднимать ноги при ходьбе! Нечего так шаркать ногами по гравию общественного сада. Куда можно позволить себе зайти только раз в месяц. Если вам так уж хочется, можете с таким же успехом разглядывать реденькие кусты в моём садике перед домом.