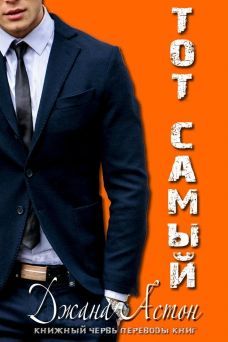Владимир Личутин - Сон золотой (книга переживаний)
У нас, вернее у бабушки, тоже была своя мыленка, торчала она в дальнем краю огорода возле болота. Неказистая внешне, вроде кушной изобки в тайболе, в какой живали прежде ямские конюха, наблюдавшие сменных лошадей, с крохотным оконцем в тетрадный лист, – баенка едва выказывала себя из снежного разлива сажными разводьями вокруг деревянной дымницы. Дорожку к бане обычно не расчищали лопатой, чтобы не тратить зря силы, а натаптывали глубоким, по пояс, корытом. После снегопада, попадая на помывку, даже взрослые пурхались, утопая по рассохи. Нам же, «робятёшкам», было особенно неловко брести, попадая в чужой след. Не удержишься на ножонках, да и бултых носом в сугроб, растопыря руки. Пока-то тебя выгребут. И смех, и грех; все рыло в снегу, когда выберешься из того плена.
Баня была маленькая, рублена из тонкомера, а с годами и вовсе скукожилась, съежилась, поехала крышею к болоту; подобное постоянно случается со старым человеком. Срубец был поставлен низко на еловые комельки. Веснами вода подтапливала, подходила под половицы и прыскала ледяной струйкой по ножонкам. К мыльне, как принято, прирублены крохотные сенцы (предбанник) со щелястым полом; черного пола не настилали, и потому от болотины тянуло сквозняками, а зимами углы обмерзали толстым куржаком, будто бараньей курчей, порог обрастал ледком, и оттого двери плохо закрывались. В узкий предбанник вмещалась лишь скамейка, раздеться даже одному было тесно, особенно взрослому, в двери поддувал ледяной хиус (ветер с полуночи). Чтобы хранить тепло и зря не переводить дрова на истопку, пороги нарубали высокие, потолки настилали низкие, а двери навешивали маленькие и потому входили в баню внагинку, каждый раз невольно кланяясь баннушке. Забывчивый человек иль гордоватый, кто привык голову высоко носить, обязательно прикладывался лбом к верхней колоде и набивал шишку. Но даже я, малорослый ребенок, затаскивая воду и дровишки, нередко забывал о коварстве любимой баенки, и потому со лба не слезала печать – синий рог, который со временем желтел, сходил на нет до нового «угощеньица». Когда гость стукался «головешкой» о притолоку, стесывая макушку, и невольно рычал от боли, то хозяева лишь добродушно посмеивались: «Ничего, до свадьбы зарастет. Всем доставалось. Это Бог науки тебе дает, чтобы не был ты ломоватый да гордоватый. Не забывай лишний раз поклониться баннушке да шапку сронить. Чай, не переломишься».
Сама баня (мыльня и парилка) была размером два метра на два. Крохотное, с тетрадный лист, оконце в одну шибку, выходящее в огород, низко сидящее в лопушатнике, едва ли когда мытое, было похоже на старческое бельмо даже в яркий солнечный день. В пазья немилосердно парило и потому зимой нарастал на раме и на ободверинах толстый каракуль желтоватого куржака. Обычно в баню ходили в сумерках, а кончали мыться уже впотемни, то уличный свет был вообще без нужды. Да и кого, и чего было разглядывать в парилке? В бане надо обихаживать телеса, а не стрелять по сторонам глазами, тем более что в них дуриком лезет едучее до слезы хозяйственное мыло, да и немилосердная жара гнетет сердчишко и гонит вон. Тут, дай Бог, скорее ополоснуться. Напротив низкой дверешки были сколочены полати. Возле скамья для взрослых, а для нас, дитешонок, небольшая колченогая скамеечка, она же служила и стульчиком для старух и подставкой для таза. В левом углу стояла вальяжная, осадистая, в половину мыленки битая из глины печь-каменка без дымохода, над топкой гора закопченных валунов и чугунный котел ведер на пять. Старинная русская баня, как водилось тогда повсеместно, топилась по черному. Открывались обе двери, пятник в стене (круглая дыра, которая при мытье затыкалась кляпом или задвигалась доскою), и дым клубами выметывался на огород, сизыми волнами слоился к дому, разнося по окрестности горьковатый запах. Все в околотке знали, что у Личутиных банный день; точно так же соседние бани, затопившись, напоминали и нам, что хозяевам не до гостей, они готовятся к помывке.
Задымленные стены нашей баньки блестели, словно обтянутые начищенной гуталином хромовой кожей, до потолка тоже нельзя дотронуться, – всюду копоть толстым слоем, жирная, как гуталин. Добрые хозяева, наверное, мыли стены, шоркали голиком с дресвою лавки и полати, потолок и пол, – но эта нудная работа требовала сноровки, времени и терпения. Я не знаю, как мылись взрослые, ибо даже я, малорослый ребенок, не мог приподнять рук над головою, чтобы не испачкаться. Зимою в сенцах ноги примерзали к полу, потому торопливо одевались в мыленке, казня и себя, и столь неурядистую баньку, и женщин, что опять не сподобились вышоркать баенку; и потому в такую оглашенную жару приходится терпеть божье наказание. Ну, а кто мыть-то возьмется? Одноглазая бабушка уже не в силах, ей бы по дому обрядиться, да мужиков обиходить и накормить, маме же моей было не до подобных забот, наверное казавшихся простой блажью.
Я долго, наверное, лет до восьми-девяти ходил в баню с мамой, но странно, что внешне она никак не сохранилось в памяти, как бы осталась за непроницаемой колышащейся завеской. Ведь в углу мыльни висел дворовый фонарь со свечою за стеклом, и его тусклый свет должен бы выявить из темени и запечатать в моей памяти яркий осколочек жизни во всех подробностях. Но помню лишь мамины ласковые руки, словно бы живущие отдельно от тела, то и дело выныривающие из сиреневого плотного тумана, безжалостно натирающие мне голову едучим хозяйственным мылом; помню слезы в глазах и почти ненависть к бане, в которую надо обязательно ходить, чтобы не заели вши (так назидала мама); помню немилосердную жару, от которой отваливались уши, но почему-то всякий раз остававшиеся при мне; помню первые горьковатые клубы пара, когда мама сдавала на каменицу ковшик воды; помню черный щелястый полок, куда мать приказывала лечь, и я нехотя взбирался, больно стукаясь костлявыми коленками о доски; даже эмалированный таз помню с длинной ржавой щербинкой на кромке и вехотек из спутанного склизкого мочала; помню, как одевался, с муками протискиваясь в рубашонку и обязательно испачкивая рукава о сажный потолок, а мама с ворчанием помогала мне натянуть ее, липкую исподницу, со спины. Но моющейся мамы, а ведь она была тогда совсем молодая, в самой бабьей поре (ей только тридцать два года), – не помню совсем. Словно не было у ребенка глаз. Какая странная у человека, выборочная память.
И вот, кой-как прикрыв тельце, насунув в предбаннике валенки на босу ногу, выскакиваешь на волю: в морозном небе яркая круглая луна, все вокруг облито переливистым вспыхивающим серебром, длинные темно-синие тени пересекают огород, застыл посреди огорода стожок в один промежек с голубоватым сугробиком снега на острой хребтине, кривая стежка, едва протоптанная через искрящееся море разливанное, а вдали, куда спешу, настороженно проступают громада нашего дома и белесый столб дыма из трубы. Стужа как-то мягко, ласково обжигает мои голые ягодички, проникает через рубашонку и осыпается на влажные горячие плечи легкой изморосью. Прежде чем стремительно взбежать по крыльцу в сени, каждый раз непонятно отчего на миг задерживаюсь и, унимая отчаянно бьющееся сердце, распираемое радостью, что уже не нагонят меня голодные волки, полукругом рассевшиеся за изгородью и сердито клацающие зубами, – оглядываюсь и отстраненным взглядом схватываю оцепенелые болотные кущи в осыпях снега, стертые во мгле очертания баньки и морошковой желтизны оконце, словно бы приколоченное к темноте; нет не глазами, облепленными инеем, но каким-то особенным внутренним зрением я вижу, как за стеколком, будто на экране, шевелится смутная тень. Это домывается моя мама.
* * *В зиму пятидесятого после нового года в этой баньке едва не погиб старший брат. Со своим классом он собрался в лыжный поход и потому решил помыться первым. А баня спешки не любит, особенно зимою. Ее вытапливают долго, почти все светлое время, чтобы смогла намыться, не попрекая худые руки истопника, вся семья: сначала взрослые мужики идут, отчаянные парильщики (хозяин с сыновьями и зятьями), потом старики – у кого густая кровь жарку просит, следом – старухи из древних лет, кто веника еще не забыл и страсть как хочется пробудить остамелые косточки и вдохнуть в иззябшие жилы живого духу, – их-то из бани под руки выводят дочери иль невестки; потом бабы «робятишек» своих притянут и через слезы и куксы намоют-нашоркают от пяточек до макушечки и, переведя дух, когда вся семья обихожена, а на себя, кажется, уже и сил не осталось, принимаются неспешно намывать свои разопревшие розовые телеса, с которых, пока детвору терли, не один пот скатился. Потому изрядно надо нагнать в баенке жару-пару, чтобы до ночи перемыть всех, и чтобы каменья допоздна не умирали, испустив однажды вместо волны терпкого жара, струйку кислого духа. А в иных семьях так натопят, что если ввечеру припозднились, то по утру идут в мыленку и в ней сыщут такого же жара, как и ввечеру.