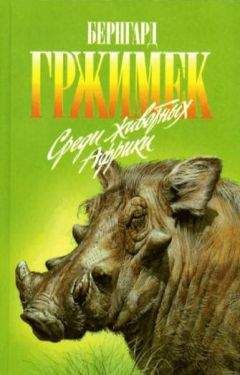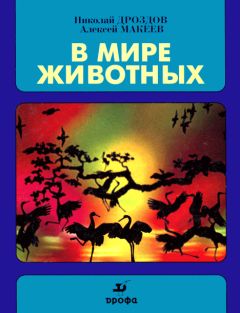Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
— Не надо преувеличивать, — Дронов поморщился. — Костров-то не мальчик. Он должен знать, что стройкой управляют не из штаба, а из кабинетов. Вот сейчас я вернусь к себе, вызову в кабинет Менько и постараюсь заставить его ускорить пуски насосов. А как я это сделаю. Костров никогда не узнает. Есть явное, а есть тайное. Во всяком управлении есть тайная, скрытая от глаз сторона.
— Конечно, Валентин Александрович! Я это понимаю прекрасно. Однако остается и витринная, явная часть, и пусть уж в витрине стоит золотой манекен, даже если временно прилавки без товаров пустуют. Я вам хотел сказать: я звонил в Москву, разговаривал с дядей. Он вам кланялся, сам будет скоро звонить. Вот-вот подпишут приказ, и замминистра Авдеев уходит на пенсию. По-видимому, вам очень скоро последует предложение. Приглашение перебраться в Москву.
— Я не думаю расставаться со стройкой! — резко, недовольно ответил Дронов. — Иметь под руками стройку — предел мечтаний строителя. Уход со стройки в Москву — это превращение из строителя в клерка, пусть высокостоящего. Всегда боялся стать клерком.
— Есть логика служебного роста, Валентин Александрович, — улыбнулся Горностаев. — Есть логика продвижения в Москву. Кстати, еще одна новость от дяди. К нам в Броды едет журналист, весьма известный. Он писал про Чернобыль, писал про ядерный полигон. Теперь будет писать о нас. Надо очень тонко его принять. Теперь, после Чернобыля, публика видит в нас самых опасных людей. Смотрит на нас как на врагов народа. Дядя сказал, что от предстоящей публикации много зависит. Ей придается и в министерстве, и в Совмине очень большое значение. С общественным мнением после истории с Северными реками стали считаться. Нам накануне п$ска не нужны нарекания прессы. Надо очень точно ее сориентировать.
— Ну вы и займитесь прессой! Вы ведь большой политик!
— Я покажу журналисту «Вектор». Пресса ждет сенсаций. И она их получит.
— А мне позвонила жена. Сказала, что хочет приехать с сыном. Сын после Чернобыля отлежал в госпитале и. кажется, получил направление в академию.
— Ведь он же у вас летал в Эфиопию, на засуху. И в Афганистане его вертолет сражался. Пусть уж теперь в академию.
— Пусть бы дома, в Москве пожил. Не под пулями.
И лицо начальника стройки сморщилось, как от боли. Горностаев внимательно посмотрел на это лицо.
Глава девятая
Рабочий бригады монтажников Михаил Вагапов трогал шлифовальной машиной корпус реактора, огромный литой стакан из белой нержавеющей стали. Абразивный круг начинал звенеть, высекал из стали рыжие космы огня. Вагапов удерживал в кулаках тяжелую вырывающуюся комету, прижимал ее к зеркальной поверхности. А когда отпускал и комета улетала и гасла, под руками открывалось драгоценное льдистое мерцание безупречно отшлифованной стали. В реакторе туманился, отражался весь просторный реакторный зал. Недвижные желтоватые прожекторы. Голубоватые молниеносные вспышки. Гулкий ярко-красный полярный кран, скользящий под куполом. Светлые тени пробегавших, одетых в белые робы монтажников. Вагапов, не оглядываясь, видел в выпуклом зеркале весь зал с высокими, как горы льда, элементами реактора, разрозненного, еще не смонтированного, не опущенного в черную глубокую шахту, где в бетонной и металлической тьме ухало и звенело.
Вагапов защищал отмеченную мелом поверхность, на которой, словно темная пудра, выступала окись — след неосторожной транспортировки по железной дороге. Устранял эту легкую копоть, превращал ее в чистый стеклянный блеск. Работал непрерывно и сильно, но не мог согреться. Калорифер не действовал. Из круглого люка в стене дул плотный ровный сквозняк. Второй калорифер в другой половине зала согревал наладчиков, тянувших кабель к щитам, и его тепла не хватало на всех. Вагапов работал мускулами, сжимал шлифмашинку и не мог согреться.
Это ощущение холода, тяжелого, вырывавшегося из рук инструмента, гулкая вибрация, отдававшая в плечо слабой ноющей болью, вид близкого огня и металла порождали в нем неясное тревожное сходство. Видения, которые он не пускал, отводил назад, за спину, в прошлое. Но они из-за спины, из прошлого, возвращались. В туманной стальной поверхности начинала проступать зеленая бегущая по ущелью река, барашки на камнях переката, несжатая, поломанная гусеницами нива, зазубренные обломки глинобитной стены и лицо новобранца Еремина, худое и серое, под стать обветренной глине. Это видение выступало. Но Вагапов стирал его жужжащим огнем абразива, отстранял напряжение мышц, заслонялся иными мыслями.
Ему хотелось думать о красоте и совершенстве изделия, к которому он прикасался. Он знал: реактор был отлит и выточен в Ленинграде, привезен на открытой платформе, укутанный в белые холсты. Он, Михаил, однажды был в Ленинграде. Запомнил дворцы и церкви, золоченые купола и шпили, статуи и гранитные набережные. Весь город был наполнен бесценными творениями рук человеческих, оставшимися от прошлых времен. Теперь в Ленинграде не строили дворцов и церквей, а создали реакторы. Но стальное диво было так же красиво, собрало в себя столько же умения, мастерства, людского труда и терпения, как и те золоченые башни, сияющие купола, отраженные в серой реке. И мысль, что его руки тоже участвуют в создании реактора, — эта мысль волновала его. Он думал о заработках, премиях, о поломанном калорифере, о спорах с кладовщицей, но одновременно и о драгоценном изделии, к которому его допустили. О других неведомых людях, создавших сияющее льдистое чудо.
Приблизил к реактору лицо, увидел свое отражение. Его дыхание затуманило сталь, а когда облачко тумана рассеялось, опять в глубине проступила зеленая река с перекатом, белая, измятая танками пшеница, голова новобранца Еремина, прижатая к глинобитной стене.
Река, зеленая, быстрая, бежала по ущелью в мелких проблесках солнца. Сворачивала за сыпучий откос, и там, у поворота, словно застывала на белых гребешках переката. Кишлак, нежилой, с проломами в стенах, с серыми глыбами разрушенных саманных домов, хранил на себе следы огня, спалившего солому и ветошь, деревянные надстройки и двери. На глиняных выступах чернела копоть. Сквозь дыру в дувале виднелось близкое пшеничное поле, седое, бесцветное, с неубранными обвисшими колосьями, среди которых стояли зеленые фургоны военных машин, крытые брезентом грузовики, и солдаты-афганцы набрасывали на зарядные ящики негнущийся полог.
Вперед по ущелью уходила каменистая, жаркая на солнце дорога, и там, где она достигала моста, темнела и бугрилась осыпь, сорванная взрывом с кручи, завалившая подходы к мосту. Виднелась подорванная саперная машина. За выступом к дороге выходило другое ущелье, и в нем редко и вяло ухало. Звук, отраженный от склонов, достигал кишлака ослабленный, утративший твердость, с бархатными рокотаниями. Иногда сквозь рокоты тоньше и резче звучали пулеметные очереди.
На перекрестке ущелий шел бой. Душманы фугасом взорвали уступ горы, остановив продвижение колонны. Заминировали дорогу, не пуская на минное поле саперов. Обстреливали их из пулеметов — из темных высоких пещер, скрывавших пулеметные вспышки. Саперная машина с ножом и скрепером напоролась на фугас, дернулась бледным взрывом и, расколотая, сползла на обочину. Сейчас к перекрестку выдвинулись танки, ушли за уступ и, невидимые, прямой наводкой вели огонь по пещерам, стараясь подавить пулеметы. Пушечные выстрелы танков, работу душманских пулеметов слышали солдаты, прижавшись к глинобитным дувалам, укрываясь в короткую жидкую тень.
Михаил Вагапов, сержант мотострелковой роты, сопровождавшей грузовую колонну афганцев, смотрел узкими, засыпанными пылью глазами в пролом стены, где, неубранная, осыпалась пшеница и тонкая вереница саперов осторожно пригибалась, боясь попасть под огонь. Продвигалась к мосту, застывала, разрывалась. Передние, бывалые, побывавшие под обстрелом, начинали двигаться, а замыкающие, новобранцы, робея, продолжали лежать. Потом и они вставали, догоняли «стариков» и плотной горсткой шли на минное поле.
— Да ударить самолетами по норам! Чтоб клочки полетели! Не руками же их выгребать оттуда! — Взводный, лейтенант, взвинченный, неутомимый, не измученный солнцем и пылью, поднимался из-за дувала, провожая саперов, остро, жадно смотрел им вслед, ловил звуки залпов, нетерпеливо поправлял «лифчик» с боекомплектом, оглаживал короткий, ловко висящий на боку автомат. — Управляемые ракеты им в пасть и пушечкой поработать как следует! А то топчемся третий час, только людей кладем!
Все это он говорил никому. Офицеров поблизости не было. Взвод, утомленный, лежал в тени. Никто из солдат не откликнулся. Взводного недолюбливали. Он недавно принял командование, сменил на должности прежнего, умного, умелого, храброго любимца солдат, отслужившего срок, вернувшегося в Союз. Этот новый казался слишком шумным. Слишком резко и парадно командовал. Еще ни разу не водил солдат в бой. Старослужащие, среди них и Вагапов, с недоверием поглядывали на лейтенанта, на его щегольские усики, осуждали в своем кругу его вечную взвинченность, ненужную, не дававшую им покоя активность.