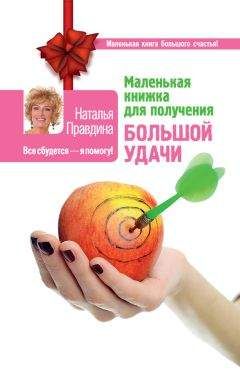Анатолий Ким - Остров Ионы
Впредь насчет добычи яиц черная собака была весьма осторожной, хорошенько продумывала каждый шаг и предпочитала ходить за ними по ночам, когда птицы ничего не видели. Чувствуя, как она крадется и крутится рядом с гнездом, кайры лишь негромко попискивали, будто птенцы, и беспомощно моргали невидящими глазами. Ничего не стоило стянуть из-под носа самой воинственной чайки ее яйцо или даже, пихнув носом под бок, вытащить это яйцо из-под ее душно пахнущего рыбой горячего бока. Иная даже услужливо привставала, как будто хотела облегчить вору доступ к кладке высиживаемых яиц. Разумеется, любую из тех тысяч и тысяч беспокойно ворочающихся или тихо замерших на гнездах птичьих тел можно было ухватить за шею и потащить, чтобы потом съесть птицу, однако в природе черной собаки, воспитанной в цивилизованных привычках рядом с человеком, был подавлен навык убийства, к тому же она опасалась, что может подняться страшная паника среди великой ночной тишины, а любого излишнего шума она не любила, поэтому у нее и уши-то были так устроены, что свисали и как бы всегда оказывались прикрыты клапанами.
На высоте Онлирии колоссальный вихрь начинал расширяться, словно шляпка гриба, и зловеще напоминал собой взрыв сверхмощной водородной бомбы. Упираясь верхней частью в темную тучу размером в половину неба, торнадо ввинчивался в ее рыхлое черное брюхо и широкими круговыми движениями воздуха, словно вентилятор, рассеивал там дробленную до парового состояния, высосанную из океана водяную пыль. И грандиозная воздушная карусель циклона получала дополнительную силу вращательного движения, отчего Стивен Крейслер, подхваченный могучим центробежным устремлением грозовых облаков, в одно мгновение был унесен далеко в сторону от координат, определяющих местонахождение острова Ионы. Вместо Берингова моря, где был остров, под путешественником, мигом перескочившим через Камчатку, вскоре оказалось Охотское море, и впереди на весь горизонт вытянулось Колымское побережье.
Но ничуть не догадываясь об этом, свободный американец, в прошлом адвокат и не очень усердный адепт церкви квакеров, решил приземляться, последовав примеру внезапно ринувшейся вниз Натальи, которая или не успела его предуведомить, что собирается спускаться, или решила вновь покинуть его, как сделала это однажды в жизни. Недоумевающий Стивен, все дальше уносимый заоблачным вихрем, решил наконец устремиться за нею и, вспомнив высокий пилотаж встреченного ими в облаках крылатого Икара, прижал руки плотно к корпусу и вниз головою пошел к земле, словно снаряд в свободном падении. Ни на мгновение он не задумался над тем, что его решение может быть неправильным, или бесцельным, или чем-то даже опасным для него, потому что он уже был человеком, получившим Большую Свободу, а потому и не ведающим, что правильно или что неправильно, никаких целей больше не ставящим перед собой и отныне не знающим страха.
Он оказался на земле — с одной стороны она уходила под серое холодное море, с другой — была одета в древесную шубу беспредельной тайги. Земля эта по-русски называлась Колымой, а к этому названию выползло из таежного мрака некое змеевидное двусловие: зеленый прокурор. Никогда не знавший Россию, книг Варлама Шаламова не читавший, Стивен Крейслер, потомок Готлиба Крейслера, лейб-медика Екатерины Великой, был сильно удивлен видом, запахом и странным беззвучием этого края. Слова на русском языке — Колыма, зеленый прокурор, прозвучавшие внутри его уха, не убрали, но добавили удивления в человеке, который свою жизнь прожил в Америке, а не в России. И в дальнейшем все, что он увидел и узнал, нисколько не содействовало его американскому пониманию той жизни людей, что проходила тут совсем в недавнее время.
На Колыме, пространство которой так поразило и насторожило свободного американца Стивена, мера человеческих мук была настоль велика, а духовное качество страданий столь низко — ведь оно зависело целиком от мучителя, — что уничтожение человеческое осуществлялось на биологическом, почти на клеточном уровне и погибель исходила на человека от человека без ненависти, буднично, скучновато, деловито и отчужденно. Стивену было известно, что такое бывало и в давно цивилизованной Европе, в Древнем Риме — например, на гладиаторских боях, и в самом ее центре, в Германии, у стальных дверей газовых камер, куда пропускались для умерщвления строго по счету, обязательно раздетыми донага. Никогда тот, кто пропускал в дверь, не всматривался в лица пропускаемых, а считал их по головам, загибая пальцы на своей руке. В немецких лагерях травили газами, жгли в крематориях огнем, а на Колыме большей частью замораживали на холоде, порой при минус 60 градусов по Цельсию, так что немецкий способ получения искусственной смерти обходился гораздо и несравнимо дороже русского. Ведь первый вариант требовал расхода химических веществ и жидкого топлива, тогда как в русском варианте щедро использовались особенности местных природных условий. Но для смерти это было без разницы, так же как и ее работникам, перед которыми стояла одна задача — как можно быстрее прекратить жизнь большой массы людей, и такое лучше всего можно было делать, не заглядывая им в лица, не насылая на них всякие там беды, болезни, неудачи, утраты, отчаяние и прочие дорогостоящие страдания, а сразу на клеточном уровне быстро уничтожать тела с помощью огня или холода.
Видимо, настало время нам с А. Кимом снова встретиться и спокойно объясниться.
И вот Я вновь призываю его, находясь на побережье суровейшего и неприветливого моря, в том краю, который называется Колымой. Это слово вызвало в А. Киме целую бурю самых темных и тяжких эмоций, будто в душе комнатного растения, рядом с которым некий озверевший от злобы мужик, небритый и красноглазый от затяжного пьянства, выкрикнул грязное матерное слово, угрожая кому-то…
Трое мужчин и женщина, одетые в костюмы разных, весьма отдаленных друг от друга эпох, подошли к Стивену Крейслеру, который предстал перед маленьким отрядом выходцев из леса в своем привычном виде последних спокойных лет жизни: в двубортном твидовом пиджаке с блестящими металлическими пуговицами и при галстуке. Итак, передо мной были почти все участники экспедиции на остров Ионы, исключая Наталью Мстиславскую, которая в виде собаки, помеси кокер-спаниеля и черного терьера, уже достигла острова и бегала по нему, хватая рыбу на отмелях и таская яйца с птичьего базара. Писатель А. Ким в сильно поистрепавшемся джинсовом костюме, в прорванных на коленях штанах подошел к американцу третьим. Самым первым шел от леса Андрей с пятизарядной винтовкой старого образца за плечом, в офицерской фуражке, за ним шла Ревекка в длинной клетчатой амазонке, далее следовал писатель. Замыкал шествие Догешти в черной длинной железнодорожной шинели, за распахнутыми полами которой сверкали на груди принца серебряные поперечные полосы голубой венгерки, в которой он любил ходить во времена оны. Шинель же черная, без пуговиц, была найдена в заброшенной будке стрелочника во время перехода экспедиции по трассе БАМа… Хороша, живописна была компания! Я с удовольствием разглядывал каждого по очереди, впервые имея возможность видеть всех их вместе.
Вот Ревекка, красавица с гнедыми роскошными волосами, которая вовсе не имела кармической вины за излишнюю жадность к деньгам, а была ведь наказана именно за это! Моя вина… Это мать ее и отец, торговец маслом, должны были понести наказание — и понесли — за свою чрезмерную любовь к деньгам, которая у них была намного больше любви к Богу Авраама, Исаака и Иакова, была сильнее даже, чем лютый страх смерти. Схваченная ею за горло, пышная и любвеобильная девушка должна была умереть от тифа, став вся истощенной и бледно-зеленой, словно высохший гороховый стручок, — так и не испытав в жизни дивных радостей Суламифи. Пришлось буквально вырывать ее из когтей смерти и возвращать на землю в суррогатной воскресенной плоти, которая ничего из прежних своих ощущений не имела, кроме чувства — по ее же доброй воле! — самого неистового сексуального наслаждения.
Андрей Цветов, дворянин, поручик царской армии. Подведен под расстрел за постоянное высокомерие к подчиненным и сословное презрение к черни — но не за свои собственные грехи, а за кармические проступки его прадеда, полковника Кирилла Даниловича Цветова, который запорол шпицрутенами, проведя сквозь строй, с десяток солдат насмерть. Сам Андрей был офицером сдержанным, к подчиненному рядовому составу относился без особенной строгости, хотя и держал дистанцию… Когда в составе колчаковской армии он отступал по Сибири, мне не удалось проследить за его судьбой, и внезапный плен, пытки и быстрый расстрел Андрея никак не связаны с мерой его собственной кармической вины — она была еще не столь велика, чтобы приводить человека под такое суровое наказание. И он тоже был возвращен на землю — по доброй его воле, — чтобы долгим, верным служением той, которая выбрала и полюбила его, был бы уменьшен тяжкий груз вины его прадеда, чью карму Андрей и получил в наследство.