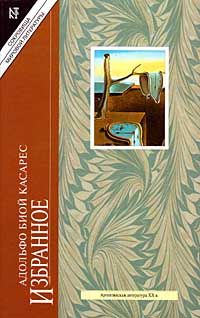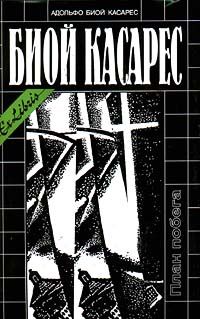Елена Колина - Мальчики да девочки
Белла увлекалась всем, чем было возможно увлечься, и ни одна модная идея века не прошла мимо нее. У нее были духовные искания, религиозные и мистические настроения, увлечения то декадентами, то символистами, она была членом самых разных кружков и даже кружка по изучению эротических фантазий в современной литературе (было и такое), а в применение на практике эротических фантазий вовлекала мужа. Элия относился к мистике насмешливо, к эротическим фантазиям – насмешливо-одобрительно, а к Белле в ее шелках, кружевах и перьях – с неувядаемой, будто хранившейся в леднике, любовью.
– Где ты был, попугайчик? – поздно вечером спрашивал жену Белоцерковский. – Ты еще помнишь, что у тебя есть муж?
Белла помнила. Запудренная до смертельной бледности, в бархатном балахоне и повязке принимала участие в «Обществе свободной эстетики», в браслетах и бусах танцевала босиком и ни на секунду не забывала, что она особенная, утонченная. Правда, настоящая, живая Белла все время выплескивалась из модного образа – ее жизнерадостность, здоровая эротичность и жизненная сила не могли долго находиться под маской унылой изможденности.
Белла бывала в «Бродячей собаке», там встречалась художественная элита Петербурга, – встречалась с собой, а не с Беллой, но для нее, жены преуспевающего адвоката, самым заманчивым было небрежно обронить: «Была вчера в „Бродячей собаке“...» Потом Белла чуть было не стала завсегдатаем кабаре «Приют комедиантов», но вовремя поняла, что это – не то. Не самое модное, не самое артистическое, не самое богемное – не то. А Белла хотела от жизни самое-самое.
– Жизнь индивидуума не должна подчиняться формам общежития, это мещанская мораль, – отвечала Белла и бросалась целоваться, щипать, щекотать мужа.
Она вся была – праздник, и ее любовь всегда была праздник; начиная любовную игру, она умела быть такой ребячливой, невинной, что ее последующая страсть изумляла и завораживала Белоцерковского, как самый большой секрет, который вдруг открывался только ему. А Беллу изумляла способность Ильи ее насмешить, – он с серьезным видом говорил ужасно смешные вещи, а в смехе оказалось так много эротического, что их любовным фантазиям было не исчерпать себя. И столько времени отнимали светская жизнь, дружеское общение, эстетические наслаждения... в общем, понятно, что Леничке досталось между ними немного места. Белла не была еврейской мамочкой, да они с Ильей уже и не были хорошей еврейской семьей, а были русские интеллигенты, продвинутые и обеспеченные: для него – работа, карьера, для нее – светская жизнь, для ребенка – образование. И как-то так они жили, словно сами были неокончательно еще взрослые, словно кто-то присматривал за их судьбой, за тем, чтобы им было легко, и счастливо, и интересно, – жили у бабуси два веселых гуся...
Дома все вихрилось вокруг мамы, от нее плакали, ее обожали. Мимо Ленички Белла проносилась вихрем – в театр, на концерт – в вечернем платье, на шее и в ушах сверкали бриллианты, и в детстве Леничка чувствовал себя недостойным даже восхищаться матерью, таким неземным существом.
Илья Маркович не был таким сумасшедшим отцом, как меламед Маркус из Белой Церкви, он вообще не был хорошим отцом, вся его влюбленность и страсть достались Белле.
Между прочим, не Илья Маркович, а вдумчивый и внимательный Леничка понял, что Белла изменяет отцу, что щебечет-ласкается тем больше, чем глубже поглощена очередным романом, но, имея полный список Беллиных увлечений, он держал свое знание в секрете. У него не возникло обычной детской реакции на Беллиных любовников как на ужасную обиду, нанесенную бедному папочке, – Илья Маркович нисколько не был похож на страдальца, оба они, и он, и Белла, были молодые и веселые, обожали друг друга и... и все. Все это только добавило Леничке эротических переживаний – пытаясь понять, что же такое есть в Беллиных любовниках, чего нет в отце, он не стеснялся представлять себе самые подробные любовные картинки.
Лето семнадцатого года прошло под знаком вопроса – уехать или остаться? Начался массовый исход знакомых, и Белоцерковские сначала в ажиотаже хотели бежать – быстро.
В квартире Белоцерковских бесконечно звонил телефон. Леничка вечером докладывал отцу: звонили такие-то, передавали – уезжают, надеются обнять нас в Париже, мы едем в Париж? Звонили такие-то, спрашивали, куда мы уезжаем... Они в Одессу, а мы куда уезжаем?
«Вы доверяете Временному правительству? Вы не опасаетесь еще одной революции?» – спрашивали знакомые. «Да», – отвечал Илья Маркович, или «нет», и это была правда, он метался, не понимал, не был уверен в своем мнении.
Февральская революция вызвала у Белоцерковского восторг, почти упоение. Самодержавие сделало лично ему много плохого – вынудило поменять веру, навсегда поссорило с отцом... Сразу же после Февральской революции Временное правительство отменило все «ограничения в правах российских граждан, обусловленные принадлежностью к тому или иному вероисповеданию или национальности», и это означало – конец черте оседлости, конец всем процентным нормам, всему тому, что так долго уродовало его жизнь. Приехала сестра Фаина с семьей и осталась в его огромной квартире. Белла не была рада провинциальным родственникам, но Илья Маркович настоял, чтобы семья сестры осталась жить с ними: это не отменяло проклятия отца, но вот же сестра, живет в его доме, семья как будто признала, что он – живой. И значит, для отца он, Элия, чуть более жив, чем прежде.
Они жили-были, спорили-судили и дожили до Октябрьского переворота, произведенного Лениным и Троцким, того, что позже стали называть Великой Октябрьской социалистической революцией. С одной стороны, переход власти в руки крайних партий представлялся Илье Марковичу нежелательным, с другой стороны, кто-то должен спасти страну от анархии, а население от выпущенных из тюрем уголовных каторжников, которые грабили и убивали при полном бездействии Временного правительства! Большевики не казались ему реальной политической силой, большевистские лозунги были просто утопией, и что же теперь будет?
Теперь уж Белоцерковский твердо решил – уезжать. Потом так же твердо решил – остаться. Чемоданы складывались и разбирались снова – семь раз. «Семь раз отмерь, один отрежь», – шутил Илья Маркович и все никак не мог отрезать от себя Россию. И все эти метания, принятые и отменявшиеся решения как будто только прибавляли в их отношения с Беллой нерва и возбуждения, они по-прежнему были очень счастливы, как будто за ними присматривал кто-то старший, – жили у бабуси два веселых гуся... И как это ни странно, посреди войны, убийств, голода была жизнь – они по-прежнему ходили в гости, спорили о судьбе искусства, читали стихи.
Все-таки Илья Маркович не хотел уезжать из Петербурга, не хотел уезжать из России – теперь ему самому это казалось странным... Но, собственно, почему это странно? Потому что через три года после Октябрьского переворота он увидел, что было дальше? И вроде бы Белоцерковский, умный и предусмотрительный, отнюдь не наивный и обладающий немалыми средствами, должен теперь в том своем решении перед самим собой оправдаться...
Оправдание его было – интересно. Он испытывал волнение, интерес, что же будет дальше... наверное, главное для присяжного поверенного Белоцерковского было – ИНТЕРЕСНО. Но ведь и дед-раввин, и отец, меламед Маркус, не просто жили, а подчиняли свою жизнь идее – Богу или образованию, вот и Илья Маркович Белоцерковский тоже был человеком идеи, романтиком. Вслух он все это несолидное мальчишеское не высказывал, ссылался на предубеждение к эмигрантской жизни, неприятие образа эмигранта, нежелание заново завоевывать место в обществе.
Но главный его довод был: крысы, покидающие тонущий корабль, – образ для российского интеллигента неприемлемый. Возможно, кому-то эти слова казались напыщенными, возможно, потом эти слова немного подзатерлись, но ведь это были его слова, – он именно что считал себя российским интеллигентом, пусть не русским, но российским.
И еще одно, не менее важное: не хотела уезжать и Белла. Намекала на какие-то потусторонние знания, видения, ссылалась на неопределенные предчувствия, что все образуется, иногда мелодраматически вскрикивала: «Хочу умереть на родной земле!» – и, наконец, приводила самый сильный аргумент против отъезда за границу: «Просто не хочу!..»
Летом восемнадцатого года Белла уехала – одна. То есть не совсем одна, а с будущим мужем. События развивались молниеносно: сначала она развелась со старым мужем, а потом уехала с новым, модным петербургским врачом Капланом.
Одним из первых декретов новой власти был принятый в семнадцатом году декрет «О расторжении брака», как будто новая власть ставила своей первоочередной задачей освобождение населения от постылых жен и мужей. Как будто Белла Белоцерковская только и ждала великих потрясений, чтобы устроить свою личную жизнь. «Революция у меня дома», – пытался шутить Илья Маркович.